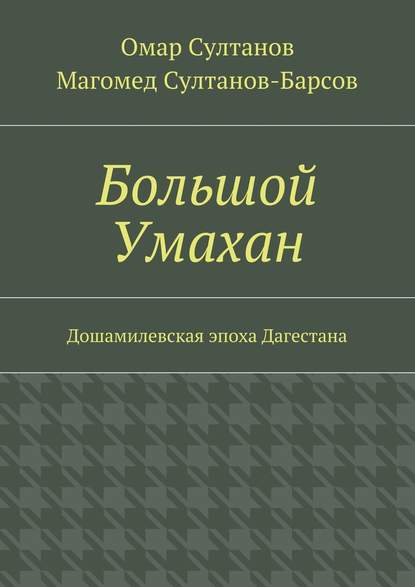По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Большой Умахан. Дошамилевская эпоха Дагестана
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Всю ночь, наверное, колдовали и молили своих богов о каре…
– Да одна крохотная сура сведет насмарку все их колдовство! Кулху валлаху ахад! Аллаху самад! Ламялид валамюлад валамякуллаху куфуван ахад[31 - Сура из Корана: «Скажи, Бог один, он един, никем не рожден, никого не родил, вечно сущим был и не равен ему ни один» (Пер. Крачковского).]!..
Попавшие в немилость к хунзахцам свои же хунзахские уздени и в самом деле просили богов послать на головы всех хунзахцев огонь и молнии вместе с каменным дождем.
Некоторые хунзахцы из любопытства пошли вслед за Чарамам и, чтобы посмотреть обряд захоронения язычников. Но там, у Белых скал, язычников уже ждали вооруженные мечами и саблями ревнители веры. Их было человек двадцать против четырех мужчин, трех подростков и шести женщин с ребятишками.
На покрытом огромными камнями клочке земли лицом к лицу столкнулись безоружные язычники с вооруженными иноверцами. Их горящие злобой глаза не предвещали ничего хорошего. Во главе вооруженных мечами и саблями мусульман стоял старший сын имама соборной мечети Исрапил. Его намерения с первого же взгляда были ясны: он и те, кто стоял на ним, не собирались даже увещевать неразумных, они сразу взяли их в окружение и обнажили клинки.
Из лабиринтов причудливо торчащих из земли скалистых белых глыб, величиной с двух-трех-и-четырехэтажные дома, вырваться было невозможно. Узкие проходы между скалами плотно закрыли собой ревнители Ислама. Язычники опустили на землю гроб и взялись за камни.
– Бисмиллахи ррахмани ррахим! – крикнул Абдурахман. – Руби проклятых Аллахом язычников!
Похоронная процессия пришла в отчаяние – камнями из-под ног много не навоюешь против мечей и сабель. Но беда, как черная птица, по воле судьбы в эту же минуту была обескрылена, словно сраженная метким лучником.
– Повиновение! – раздался, как гром с ясного неба, могучий голос первого тысячника Аварии Шахбанилава. – Кто осмелится поднять оружие, будет казнен на месте! Приказ Светлейшего Нуцала – не трогать Чарамов! Вы слышали меня, безмозглые твари? Думаете, ваша жестокость угодна Аллаху? Я вам докажу, что нет. Вложите свои мечи и сабли в ножны, если не хотите попробовать острие моего меча!
Над высокой скалой, ожидая нечто подобного, оказывается, уже сидели, как в засаде, придворный философ и знаменитый воитель с тремя своими слоноподобными нукерами.
– О неразумные! – воскликнул Гамач, обращаясь к поджавшим свои хвосты ревнителям веры, которые быстренько спрятали свои клинки в ножны. – Разве подобает мусульманам проливать кровь безоружных?! Тем более, женщин и детей? Во имя Милостливого и Милосердного прочь отсюда!
Они спустились со скал к утихомирившимся фанатикам веры.
– Может быть, вы не знаете смысла символа «бисмиллахи ррахмани ррахим»? Так пойдите и узнайте сначала, может, и вразумит вас Аллах светлой идеей человечности…
Ревнители веры, понурив головы, двинулись от Белых скал в сторону Хунзаха, а тысячник Шахбанилав, Гамач и трое нукеров отошли на значительное расстояние, чтобы не мешать язычникам исполнять свой обряд захоронения.
Язычники решили не идти дальше, к своим пастбищам, вырыли глубокую яму под скалой, накрыли гроб крышкой, связали его соломенной веревкой, не очень туго, чтобы легко открылась крышка, когда покойник очнется, согласно их верованиям. Рядом с гробом положили его любимый серебряный кубок, которым он так гордился, рассказывая всем, что он честно поступил с его прошлым владельцем – забрал кубок лишь после того, как зарубил его в бою. А к кубку положили кувшин, такой же серебряный и имеющий столь же воинственную историю. Положили в могилу еще и лук с колчаном стрел и новые сафьяновые сапоги, подаренные ему младшей дочерью совсем недавно. Зар так и не успел надеть их, чтобы покрасоваться перед хунзахцами. Каждый из внуков положил вчетверо свернутые листы желтоватой бакинской бумаги, на которых они ночью написали письма сыновьям Бечеда, великим аварским богам.
Засыпав могилу, Чарамы разровняли землю и пересадили на нее куст молодого шиповника.
Они долго молились тут своим богам, пританцовывая, хлопая в ладоши и подпевая себе древние гимны о загробном мире, где боги дают пиры в честь героев. Мужчины и мальчики, женщины и девочки то падали ниц, сокрушаясь от горя, то вставали и громко смеялись, а то и вовсе начинали бегать по кругу, хлопая и выкрикивая имена богов, в которых они верили, как в своих покровителей, имеющих реальную силу над законами природы.
– …Как бы я хотел, чтобы они приняли наконец-то Ислам, – задумчиво проговорил Шахбанилав, до ушей которого иногда доносил ветерок слов язычников. – Хоть и крепкие парни у этих Чарамов, но недолго они продержатся среди нас, мусульман. Да и мне самому неприятно, что они не такие, как мы. Вот только убивать их за это – сущая дикость!
– Да, мой друг, ты прав… Времена религиозных союзов в Аварии прошли безвозвратно. Им надо или принять Ислам, или сменить Родину, покинуть нашу священную страну навсегда…
Они дождались, пока семейство Чарамов отправится в город, и сами двинули вниз, пустив вперед нукеров.
– Ты заметил? – спросил философ воителя. – Во время пира Нуцал посадил в подземелье Абурахима…
– Нет, – качнул головой воитель.
– Когда в разговоре шамхал сказал, что форель не водится в соленом море, Нуцал разгневался на визиря.
– Да? А причем здесь форель?
Гамач рассказал, как прошлым днем Абурахим решил щегольнуть красноречием и привел в сравнение форель в волнах Каспия, а он тут же подметил его незнание. Нуцал, и так злой на визиря, тут пришел в негодование. Все знают, как раздражают Владыку невежественные речи.
– Знаю, знаю, хотя и сам он, к великому моему сожаленью, не блещет умом. Только с этим ничего не поделаешь, он – монарх, а я – слуга, солдат Престола аварского.
– Твои слова подтверждают еще и то, что визирь не пробыл в темнице и одного часа.
– Как так? – сильно удивился Шахбанилав.
– Вмешалась Нажабат-нуцалай. Она сама явилась в тюремный двор и приказала страже освободить Абурахима.
– Неужели подчинились?
– Выходит, что да, – пожал Гамач плечами.
– Аллах Великий, – тихо, одними губами промолвил воитель, словно на пустыре, возвышающемся над гордым Хунзахом его кто-то мог услышать, – я и раньше замечал нечто подобное – не абсолютна власть Мухаммад-Нуцала на Престоле…
Гамач печально улыбнулся.
– Значит, нет в Аварии единовластия. И надеяться на лучшие времена не приходится. Большинство узденей живет бедно а рабы – и вовсе на положении скота. Ханы и беки лихоимствуют, словно самим Аллахом они избраны господствовать, ничего не отдавая народу взамен.
– И самое печальное, мой друг, Нуцал понимает это, а прогнать со двора Абурахима, как я теперь думаю, не может… Его сестра и племянники дорожат этим мздоимцем.
– Ты хочешь сказать, что Абурахим отдает им часть от получаемой мзды?
– Я подозреваю, что это так. Что же еще их может связывать? Они люди далекие от идеи и забот о народе. Ведь среди них есть и более достойные стоять у Престола справа, но, однако, уже много лет судебными тяжбами ведает только Абурахим.
– Я и сам замечал, как Абурахим, вынося свои преступные приговоры, с легким сердцем клянется на Коране. Кто бы еще стал так гневить Аллаха и нарушать клятву, не боясь Судного дня? Он, наверное, не верит в Аллаха. Как думаешь, Гамач?
– Вряд ли. Чтобы отвергнуть веру, нужен ум, а его у него, как раз таки нет. Он просто из тех, кто верует, считая, что Богу он ближе и милее прочих мусульман и гибель правоверного ничто по сравнению с тем, что желает его чревоугодливая душа.
– Неужели и так можно веровать в Бога? – поразился воитель.
– Бывает еще хуже, ибо душа человека, лишенная совести, бездонна и открыта для грязи.
– Что же обо всем этом думает Мухаммадмирза-хан? Он ведь, как я слышал, недолюбливает старшую сестру и ее пятерых сыновей.
– Трудно сказать. Жизнь покажет. Я уже обращался к нему по поводу салатавского галбаца, сразившего в поединке чанку…
– И что же сказал равноправящий хан?
– Сказал, что допросит кумыков, которые слышали слова, из-за которых простой уздень осмелился задеть чанку… Пайзу-бек негодует, требуя казнить салатавца.
– Но, насколько я знаю от нуцальских нукеров, чанка сам вынудил его сражаться. Салатавец даже кольчугу скинул, чтобы их шансы были равны. И что же теперь не устраивает бека?
– Поражение, друг мой, горькая вещь. Перед ослепленным чувством мести меркнут всякие законы справедливости и даже шариат. Но это уже ты сам знаешь не хуже моего.
* * *
Через несколько дней, после того как улеглись страсти, вызванные рождением царевича, семейство Чарамов, с высочайшего дозволения Нуцала, приступило к распродаже своего имущества. Они продавали свои пахотные земли, сенокосы и пастбища, доставшиеся им по наследству от предков. Желающих купить эти угодья оказалось довольно много, но платить их истинную цену никто не хотел. Один только пахотный участок на покатом склоне стоил не меньше ста золотых рублей, ибо собирали с него столько зерна, что хватало на зиму десяти ртам. А таких пахотных угодий было у Чарамов много.
Рабы Чарамов плакали, не желая расставаться со своими хозяевами, но их тоже, было объявлено, продают вместе с имуществом. За рабов-пастухов давали всего три-четыре серебряных рубля тифлисской или бакинской чеканки, которые были вдвое дешевле русского рубля. А за рабов, прислуживавших в доме, во дворе и в хлеву, давали еще меньше – простой рабской силы хватало в Хунзахе. Иное дело – рабы – мастера кузнечного, суконного или кожевенного дела, а также рабыни-танцовщицы! Вообще красивые рабыни, умеющие кроить и шить одежду, играть на бубне, свирели, танцевать, стоили дороже всех прочих рабов, разве что за редким исключением. За раба-лекаря гоцатлинский бек предлагал хунзахскому узденю сто рублей серебром, но тот не продал его ибо в год раб-лекарь приносил своему хозяину хороший доход.