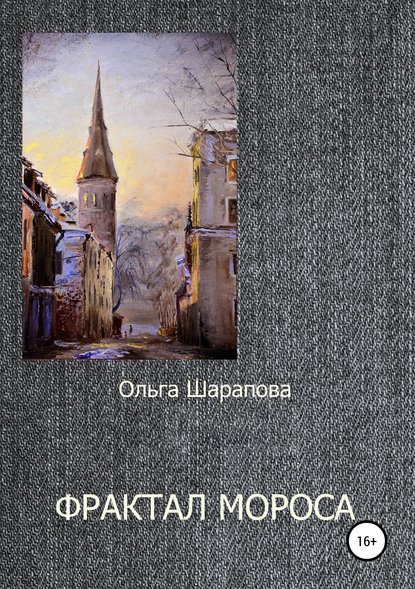По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фрактал Мороса
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Поля, поля… Вагон качается, убаюкивает. Ликас закрывает глаза. Он маленький в поезде. Отец и мать рядом, мороз, а за окном домики с оранжевыми окнами и дымы, подсвеченные в темном фиолетовом небе.
«Здорово было бы поступить в Строительный университет на гражданское строительство или строительство мостов и тоннелей, создавать эти дома с дымами, эти мосты, по которым идет поезд, чертить их трехмерные модели тонкими линиями, рассчитывать иррациональность их искривлений в больших пространствах. Мое настоящее трехмерно, оно объемное, этот вагон, соседи, городок и лес, переезд, платформа, Земля».
В полудреме под стук колес Ликас вспоминает, вспоминает. Рэмунас с лицом, залитым кровью, встающий с земли; растерзанный аист, перья и его торчащие вбок сломанные ноги; отец в морге, а потом в гробу дома; руины церкви; пляж, обезумевшие ребята, Альгирдас белый, с разбитой головой. Ликас последнюю сцену помнить не мог, но она рисовалась так отчетливо, что казалась воспоминанием. Альбом с чернобелыми фотографиями матери. Литовская бабушка, умершая два года назад, держит его на руках; вот Ликас с большой мохнорылой собакой из соседнего подъезда; вот свадьба отца и матери. Эти воспоминания и эти фотографии – одинаковые картинки прошедшего. Они плоские.
Прошлое двухмерно.
Ликас чувствовал это и раньше, но сейчас понял совершенно отчетливо. Тот мир, откуда он пришел, был двойственным. Это был плоский мир, и привели его оттуда двое – отец и мать. В этот мир он пришел двуклеточным существом.
Двухмерность детских рисунков, двухмерность икон.Сейчас, размышляя о чертежах, он совершенно ясно это осознал.
Вся тупость, оцепенение прошедших лет волной сошли с него под действием потери Родины.
Словно нарочно, дразня воспоминанием о зимних дымах, в открытые окна густо и волнующе шел запах горелой листвы от весенних костров. Он закрыл руками лицо. Мне семнадцать лет… Мне сорок лет! И все вокруг, все настоящее – трехмерно. Трехмерно только то, что сейчас!» – от собственного открытия его облило жаром. Сердце билось медленно и слишком отчетливо. Он чувствовал боль и знал, что это не к добру. Ликас не страдал от мистицизма, он не видел вещих снов, но сердце было безошибочно. Оно болело к беде слабо и безотчетно.
– Засыпаете? – спросила женщина, которая сидела рядом с мужем на полке около Ликаса.
– Да.
– Молодежь всегда мало спит, себя помню. Под стук колес хорошо спится, как раз приедете в Москву свежим.
Ликас улыбнулся.
– Поступать, наверно, едете? Учиться? – добавил дружелюбно ее муж.
– Да, точно.
– Ох, это здорово. И трудно. Удачи вам!
– Спасибо.
– Ладно, отдыхайте, – они оба улыбнулись Ликасу, и таким семейным теплом веяло от них, что не хотелось отрываться.
Чтобы не разочаровывать, Ликас закрыл глаза, а сам все слушал, о чем они говорят и как шуршат.
В семь утра были в Орше. Он почти не спал. Мысли о Москве, бабушке, об оставленном доме и будущем крутились и крутились.
«А что, если милиция будет искать меня в Москве, подадут во всесоюзный розыск, скрутят, потащат на допрос, узнают, что уже попадал в сомнительные истории, скажут: рецидивист. Нет, не может такого быть, не найдут. Подумаешь, выбил глаз, не убил же. Да будь что будет». И тут же вспоминалась проститутка с дебильным лицом. «Уродливая тварь. Если бы я убил ее, меня точно никто не нашел бы. Надо было убить. Сука, подставила меня. А ножки у нее были тоненькие…»
Из другого конца вагона доносились голоса спорящих о Советском Союзе. Со своей полки он видел места парня и девушки.
Ликас еще был в том возрасте, когда возраст других определить очень просто. С годами это проходит, но сейчас он знал, что девушке девятнадцать лет, а парню двадцать два.
Вначале они легли на свои полки, а потом парень соскользнул вниз, к ней. Полочка была совсем узенькая, но они такие молодые и тоненькие, обнялись, и рука девушки с нежными пальчиками лежала на его плече.
«Какая она красивая, не то что та единственная тварь, к которой я прикасался». Он представил, что лежит на полке, обнявшись с «ослицей», и его передернуло. В полутьме вагона он видел две эти фигурки, как же ему хотелось сейчас!
Он то тревожно дремал, то просыпался… Соседи, те муж с женой, играли в магнитные шашки, но они были такие приятные, что общаться уже не хотелось.
Проехали Вязьму и Гагарин. В Москву поезд прибыл уже после обеда, в чуть теплеющее солнце последнего апрельского дня.
Мать помимо письма дала бабушке телеграмму, но, конечно, никто не встречал. Ликас и не думал об этом. С Белорусского вокзала он пошел к метро.
* * *
Бабушки не было дома. Ликас сел у подъезда, бросил под ноги битую в боях сумку, сплюнул. Мордастый кот, желтоглазый, серый, опасливо смотрел на него из кустов. Кричали галки. Было так свежо и легко, как бывает только в апреле. Пара мальчишек с мячом прошли мимо.
– Виталик? – он поднял глаза. Он не знал эту женщину. – Виталик, ты же, милый, внук Ирины со второго этажа?
– Да.
– Ждешь ее?
– Да.
– Пойдем ко мне, я баба Катя. Что тут сидеть? – Ликасу всегда было любопытно изучать чужое жилье.
– Если это удобно… – сказал он с явным акцентом. В Москве, он сам над собой смеялся, он становился другим человеком. В гостях мы всегда выглядим лучше, чем есть на самом деле.
– Как раз чайник вскипел, – суетилась старушка. – Баранки бери, зефир.
– Да неловко вас объедать.
– Что ты, милый! Я рада гостям. Детей у меня нет, заходи ко мне – всегда рада.
– А бабушка надолго ушла?
– В гастроном пошла, в очереди, небось, стоит.
– Пойду, наверно, за ней…
– Что ты! Сиди! Разминетесь. Мы ее тут в окно увидим. А ты, наверно, поступать в институт приехал?
– Попробую.
– Хочешь скажу, поступишь или нет?
Руки старческие, сухие, в глубоких коричневых морщинах, с перстнями, в которых, как конфетки-драже, сидели непрозрачные камни, взяли его светлую руку.
– Что-то вы не улыбаетесь, Екатерина. Что там с институтом?
– С институтом, милый, не пойму. Вроде и поступишь, и нет. Вижу другое. Ты убил двух человек… и еще кого-то не из людей.
– Двух?
– Да. В конце концов перед тобой будет выбор. Страшный выбор. Не ошибись. Ошибка хуже выбора. А вон и бабушка твоя идет.
– До свидания, Екатерина…