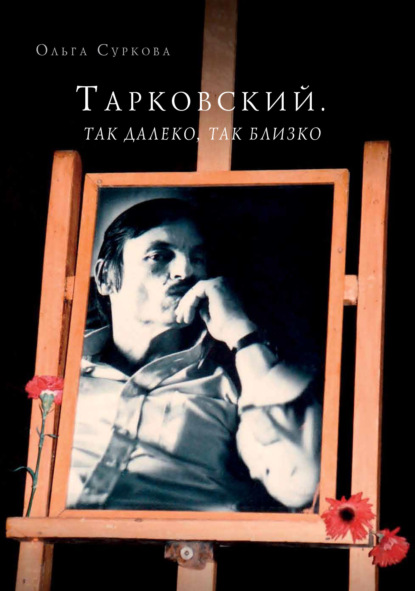По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тарковский. Так далеко, так близко. Записки и интервью
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В фильме Тарковского задача актера осложнялась особенностями предложенной ему драматургии, разбирать которую здесь не будем, но которая не предполагала анализировать характер или разбираться в его противоречиях, но предлагала зрителям тихо и внимательно вглядываться в лица и движения персонажей, чтобы уловить потаенные движения их души, определяющие динамику каждого образа. Традиционные драматургические рецепты были отброшены за ненадобностью создателями «Андрея Рублева».
Фома – это характер скрытный, характер в себе. Мы только ощущаем какие-то неясные внутренние толчки, до конца не выраженные побуждения, но они не перестают нас тревожить, хотя редко получают то или иное разрешение в действии. Впрочем, иногда получают! Например, мы чувствуем в Фоме Кононова какое-то внутреннее брожение неудовольствия, зреющее внутреннее раздражение сомнениями Рублева. Но мы не можем ожидать, что в следующий момент этот паренек громко захлопнет Библию в решительном намерении покинуть артель. Быстро вскочит и также быстро отберет себе нужные кисточки, нервно закидывая их в дорожную котомку – простите-прощайте! Ну, достали уже… Хватит! Терпение лопнуло!
Ведь другой персонаж Кононова из фильма «В огне брода нет», парень из деревенской бедноты, оказавшийся в Красной армии, вовсе мало чего понимает, как в происходящем вокруг, так и в самом себе. Не умеет до конца понять, не умеет тем более выразиться, хотя глубоко почувствовал свою любовь. Тогда как замкнутый и углубленный в себя Фома вдруг оказывается вполне зрелой и состоявшейся личностью, готовой к самостоятельному решению.
Как тонко прослеживаются в исполнении Кононова тончайшие движения развития внутреннего мира его персонажа. Вот он, будучи еще желторотым мальчишкой, попавшим в артель учеником, беспомощно орет, ошалело вытаращив глаза, принимая наказание от своего учителя Феофана, дерущего его за уши… Но это вовсе не означает, что он тут же поспешит выполнить данное ему поручение. Нет! В Фоме Кононова изначально чувствуется некая самость, которая задает ему тот собственный путь, идти по которому можно, только ослушиваясь. Ну, влечет его в сторону какая-то неведомая сила, заставляя его, шагающего по лесу, не просто заметить в траве разлагающегося лебедя, но не устоять также перед соблазном «исследователя», приподнявшего крыло разлагающейся падали, чтобы задуматься… Наверное, о скоротечности бытия, о преображении прекрасного в безобразное… На ситцевой мордашке Фомы проступает какая-то особая одухотворенность приобщения к открывающейся тайне и завороженность перед постигаемым и непостижимым таинством бытия-небытия…
Кононов проживает вместе с Фомой некое внутреннее созревание в тишине. Взросление смешного и нескладного мальчишка, все более готового принимать свои собственные, независимые решения. Он не сливается с окружением, всегда погруженный в себя, чтобы в своей сознательной самоизоляции осознать собственную индивидуальность, которая составляет предмет его гордости. С каким вниманием и обращенной в себя лукавой улыбочкой слушает он споры Феофана и Андрея, не пропуская ни единого слова, но с чувством независимого внутреннего превосходства. Весь его облик словно говорит о том, что он-то сам знает уже нечто такое, о чем больше никто не подозревает, – знает, да не проболтается! И, кстати сказать, весь визуальный образ зимней Голгофы воссоздан воображением Фомы…
И когда Рублёв ругает своего нерадивого ученика, тот, пожалуй, даже огорченно ему сочувствует. Фома расценивает брань Учителя, как досадную несправедливость к себе и недооценку его Рублевым: «Ведь сам говорил, что голубец люблю», то есть если сам признавал за мной кое-какие способности, так чего же теперь забываешься…
Фома – натура художественно одаренная, но не успевшая найти себя и раскрыться до конца. Диковатая замкнутость, ершистая ребячливость и своенравность – внешние проявления того заточенного в нем бесенка, который жаждет самоутверждения. Фому Кононова можно сравнить с ценной виноградной выжимкой, которая уже начала бродить и вот-вот вытолкнет пробку, закупоривающую бутыль. Это личность в зародыше, но личность многообещающая. Завязь, не успевшая дать плод. И потому даже на фоне варварского и тотального разрушения Владимира убийство Фомы все равно звучит особенно трагично. Длинный кадр гибели несуразного мальчишки, только что казавшегося таким простым и по-земному чудаковатым, вдруг вырастает до символа. В странном полете-падении Фомы с распластанными руками, удивленно запрокинутой головой и торчащей из-за спины пронзившей его стрелой, подобной крылу, видится нечто серафическое…
«Солярис»
Переходя к следующей картине Тарковского, следует вспомнить, что ее появлению предшествовали пять лет безработицы в связи с широко известной драматической судьбой «Андрея Рублёва», получившего премию ФИПРЕССИ на кинофестивале в Канне в 1969 году, но фактически надолго закрытого для просмотра у себя на родине. Кажется, лишь только в 1971 году фильм впервые появился в прокате, но сразу же в кинотеатре «Повторного фильма», находившегося тогда у Никитских ворот. И речи не шло о полномасштабном прокате «Андрея Рублёва». Разные клубы, чаще всего полулегально, получали копию себе на просмотры. Как правило, эти просмотры организовывались «из-под полы» Ларисой Тарковской с ее вечной помощницей и ассистентом режиссера Машей Чугуновой. Так что возможность опубликовать первое интервью с Тарковским о съемках «Соляриса» после стольких лет молчания казалось почти чудом, которое совершилось в «Искусстве кино» (№ 11, 1971).
Зачем прошлое встречается с будущим?
Известие о том, что Андрей Тарковский экранизирует научно-фантастический роман польского писателя Станислава Лема «Солярис», со многих точек зрения показалось неожиданным и труднообъяснимым.
В сложном творчестве Тарковского, вызывающем острые дискуссии, включиться в которые мне здесь не удастся, меня всегда привлекала прочная привязанность режиссера к русской земле, всегда казалось, что одно из самых притягательных свойств его режиссуры, даже в наиболее дискуссионных фильмах, – это стремление передать ее дыхание.
Вот наша земля, поруганная фашистами, застыла тяжело и скорбно в «Ивановом детстве», ощетинилась черными пепелищами… Вот та же земля раскинулась в воспоминаниях о счастливой мирной жизни, обласканная солнцем, умытая грибным дождем, усыпанная яблоками, которых так много, что изумленные лошади берут их в свои мягкие губы, лишь нежно и слегка надкусывая это щедро раскинутое перед ними сокровище…
Тарковский умеет заставить нас, как это происходит в «Рублеве», буквально физически ощущать тяжело нависший зной, напоенный сонным, томительным жужжанием пчел, и теплую пыль дороги в цветущем гречишном поле, и запах дыма в сыром воздухе, когда сгребают и жгут опавшие листья, умеет заставить нас сладко поежиться в тумане предрассветного часа… У него не бывает просто фона, пускай даже выразительного, – это всегда реальность, в которой мы существуем вместе с героями. Причем реальность, которая нередко становится нам близкой, трепетно-неповторимой, исполненной глубокого лирического значения.
Потому что взаимоотношения Тарковского с предметным, вещным миром особые… И принципиально важные для его художественного метода. «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку»… Тарковского мучает эта невозможность. Он хочет ухватить, удержать мгновение, позволить нам снова переживать его в непосредственности тех же повторяющихся ощущений от снова видимого, осязаемого, чувственно-неповторимого, существующего в возвращающемся времени, то есть времени вечном.
Детализированный Тарковским материальный мир в процессе своего существования, развития, разложения и исчезновения во времени бережно и с мучительным трепетом душевным ощущается художником как ускользающая красота. А драматизм этого процесса в быстротекущем времени запечатлевается Тарковским на пленке во всей своей осязаемости и фактурной определенности, чтобы заявить на своем экране о глубокой поэтической значимости фактографического.
Так что же будет делать Тарковский в холодных, астральных просторах, созданных мечтой польского фантаста? Тарковский – поэт, бесконечно изумляющийся натуре, умеющий общее видеть лишь в конкретном и вещном его образе…
Не изменит ли Тарковский самому себе, переносясь из просторов родной земли, навсегда сросшейся с его человеческой сущностью, в мир, существующий лишь в вымысле?
С этого вопроса-монолога я и начала свою беседу с будущим создателем русской экранной версии польского романа «Солярис».
– Действительно, я никогда не думал, что буду ставить картину научно-фантастическую. Однако как-то прочитал роман Станислава Лема «Солярис» и увлекся, понял, что мне его поставить было бы интересно.
Впрочем, должен сразу оговориться, что привлек он меня прежде всего не фантастичностью рассказанных событий, не изумляющей неожиданностью сочиненного автором мира. Поразила меня как раз реалистичность автора в разработке ситуации, принципиально возможной, точность психологических мотивировок в поведении героев, попавших в эту ситуацию…
Так что же происходит в романе? Человек встречается в космосе с какой-то новой, доселе ему неизвестной формой сознания – разве в этом есть что-то невероятное? Ведь космос – это не просто бесконечно распространенное вместилище представлений, закономерностей, уже данных нам на Земле, в нашем земном опыте. В космосе мы столкнемся с качественно неизвестным. И можно только предполагать, только гадать, что за мир нам будет предложено познать… Наш будущий фильм – не попытка создать зашифрованный, иносказательный образ существующей реальности, а путь исследований человека, оказавшегося в абсолютно новой, неожиданной для него среде.
Это один из аспектов замысла.
Развитие научного прогресса открывает перед человеком невиданные возможности. Трудно переоценить значение научно-технической революции, развертывающейся сейчас во всем мире, но тем более важно не дать использовать ее достижения против человека, как это происходит уже на Западе. Вот почему так нужно уже в нашем сегодня постараться определить те нравственные критерии, те внутренние, духовные ценности, которые окажутся необходимы и в будущем, вне которых немыслимо будет обратить во благо человеку его же собственные достижения. И вот почему я думаю, что новые научные, технические проблемы, возникающие перед нами в ходе научно-технической революции, ставят перед каждым человеком задачу подняться на иной, более высокий нравственный уровень. Эта проблема тоже поставлена в романе «Солярис», и она нас волнует тоже в силу своей реальности, а не фантастичности.
Наконец, мне показалось интересным рассказать о человеке (его зовут Кельвин), раскаявшемся в своем прошлом и захотевшем пережить его вновь, чтобы изменить. Тем более что именно такую возможность предлагала ему ситуация, обнаруженная на станции «Солярис». Ведь, как вы помните, в романе Лема эта вымышленная планета представляет собой нечто вроде гигантского мозга, в недрах которого материализуются те образы, что запрятаны нашими героями в самые потаенные глубины их душ, те образы, что более всего тревожат их совесть и о которых они давно стараются не напоминать самим себе.
Но прошлое всегда с ними. И именно так, в порядке такого напоминания, приходит к Кельвину Хари – девушка, которую он любил на Земле.
Герои – исследователи этой планеты – поставлены в небывалые прежде условия: им необходимо наладить контакт, общение с живой материей Соляриса, понять, с какой целью и по каким законам производит она (или по каким законам в ней происходят) обнаруженные героями превращения. Каждый из исследователей так по-разному относится к странным сигналам планеты. Кельвин пытается заново прожить свое прошлое, но, увы, ему ничего не удается в нем исправить. Оно необратимо, как необратим тот душевный урон, который мы порой, сами того не желая, наносим своим близким.
В неизбежной ответственности человека за каждый свой поступок видится нам третий мотив будущего фильма.
– Будет ли продолжена в новой картине какая-либо тема из ваших предыдущих работ?
– Мои фильмы, более или менее мне удавшиеся, в конечном счете свидетельствуют об одном и том же. А героев моих объединяет одна и та же страсть – к преодолению. Никакое познание жизни не дается им без колоссальной затраты духовных сил. Тяжелыми потерями может оплачиваться глубина и богатство постигаемого. Чтобы прийти к пониманию законов жизни, чтобы осознать в себе и в окружающем то лучшее, что составляет ее красоту и внутреннюю правду нашего существования, нашего бытия (а не только бытования!), для того, чтобы остаться верными самим себе, своему долгу перед людьми и перед собой, все мои герои проходят, должны пройти через напряженные размышления, искания и постижения. И чем более глубоко проникнут они в сложность и трудность стоящих перед ними в этом мире задач, тем значительнее и убедительнее окажется их решимость противопоставить тяжелому и горькому человечное, светлое, доброе…
…Действительно, вспомним, что еще в первом фильме Тарковского, в «Ивановом детстве», герой фильма – мальчик оказывался лицом к лицу с оголтелой жестокостью, вопиющим, наглым насилием – лицом к лицу с фашизмом. И ребенок, средоточие самых справедливых, гармоничных представлений о мире – само будущее мира, – не сдавался, испуганный, отчаявшийся и растерзанный, а, напротив, обретал в себе несгибаемую силу противостояния злу. Иван добровольно взваливал на себя все бремя ответственности. И хотя это бремя оказывалось для него безмерно тяжелым, в гибели Ивана была не только жестокая правда реальности. Потому что истинная – и безмерно высокая – ее правда состояла в том, что мальчик не мог остаться в стороне, отринуть от себя всю тяжесть ответственности спасения мира от безумия фашизма. Сознавая свою личную ответственность за все, что происходило на его родной земле, он, преодолевая даже собственный возраст, сражался, как настоящий солдат, за восстановление гармоничной целостности мира. Иван ощущал свою личную внутреннюю ответственность за возрождение того прекрасного мира, который возвращается к нему в снах, готовый для этого к любым «перегрузкам», казалось бы, непосильным для ребенка. Но именно в этой внутренней стойкости мальчика виделась режиссеру сущность настоящего человека, высшая правда о нем.
– …Вот и теперь, в моем будущем фильме, как бы подхватывая и развивая это мое соображение, – говорит Тарковский, – Кельвин должен сохранить человеческое достоинство в ситуации, поистине нечеловеческой и трудно вообразимой. В этом и есть его нравственный долг, который он выполнит, хотя для этого ему придется многим пожертвовать, многое преодолеть. Чтобы остаться верным себе, своим представлениям о справедливом и гуманном в нашем мире, ему нужны силы, стойкость, настоящая убежденность, нужен тот духовой заряд, во внутренней природе и «структуре» которого мы и собираемся разбираться в нашем фильме.
– А каковы особенности формы, поэтики будущего фильма?
– Мне представляется, что в кино главная задача состоит в том, чтобы достигнуть максимальной непосредственности, видимой непроизвольности изображения, то есть, условно говоря, безусловной реалистичности повествования. Такую задачу нам предстоит решать и на этот раз: как оператору В. Юсову, так и художнику М. Ромадину. Картина должна быть предельно простой по форме, ни в коем случае не удивлять разного рода фокусами и трюками, так называемой «зрелищностью» или настырной «выразительностью» кадра. Хотя фильм все же будет, увы, цветным.
– Неужели? Ведь помнится, что вы были принципиальным противником применения цвета в кино?
– Был! Но что делать с «прогрессом»? Уж коли цвет изобрели, то приходится думать о том, как его использовать, теперь от этого никуда не денешься…
– Ну, а по жанру вашу картину можно будет назвать научно-фантастической?
– На этот вопрос мне трудно ответить. Видите ли, по-моему, самое понятие жанра в кино относительно, условно, изменчиво. Ведь художественно-игровой кинематограф оперирует образами самой действительности. Ни одно искусство не может зафиксировать реальность во всех ее физических проявлениях, и существующих в каждый данный, конкретный момент, и изменяющихся во времени. Мне уже приходилось писать об этом более подробно. Сегодня, делая эту картину, я только могу сказать, что, с моей точки зрения, течение фильма, его ткань должны быть как можно ближе к самой действительности. А действительность, если позволительно так будет выразиться, не имеет жанров – в ней сплелось все: грустное и смешное, драматическое и лирическое, трагедийное и фарсовое. Поэтому, если мы хотим делать произведения искусства, а не просто зрелища, то нам надо думать не о заранее размеченных «жанровых границах», а о возможности более полной и всесторонней передачи действительности. Так, чтобы в фильме совместились – органично, естественно – комедия и драма, эпос и лирика. Мы должны исходить из предпосылки, что зритель идет в темный зал кинотеатра за уникальным событием, запечатленным пленкой в его чувственном, неоспоримо реальном движении, за живым опытом, хранящимся теперь в коробках и воспроизводимом на экране. Опытом, на свой лад пережитым художником в самой реальности.
– Но если кинематограф, который вас привлекает, апеллирует всегда к образам самой действительности, к восприятию реально пережитого художником опыта, то в вашем новом фильме вас тоже должны интересовать прежде всего люди, их взаимоотношения, но не фантастическая среда, в которой они действуют. Какой же видится вам эта несуществующая в реальности среда, которую нужно измыслить?
– Конечно, действие «Соляриса» происходит в атмосфере уникальной, невиданной. Но наша задача состоит в том, чтобы максимально конкретизировать эту уникальность в ее чувственных, внешних приметах. Чтобы она была материальна, ощутима – ничего эфемерного, неопределенного, специально, нарочито фантастичного. Чтобы на экране были «мясо», фактура самой среды. Я против велеречивой, якобы что-то в «универсуме» обобщающей «поэтической» условности. Я всегда за конкретность атмосферы, среды, героя. Хотя в данном случае приходится столкнуться с той конкретностью, которой никто в глаза не видел и руками не щупал!
– Но тогда как должны чувствовать себя ваши актеры в атмосфере пока невиданного и неслыханного? Каким образом вы формулируете их задачу в таких непростых обстоятельствах?
– Я считаю, что решающим условием успеха актера в кино является его как можно более полное изначальное внешнее и внутреннее совпадение с изображаемым персонажем. Я стараюсь найти таких актеров на каждую роль, которые могли бы просто оставаться собой в предлагаемых обстоятельствах и не пытались что-то играть, придумывая какой-то образ. Боже упаси! Ведь именно кино предоставляет такую неограниченную свободу выбора, позволяя распорядиться практически неисчислимой «труппой» актеров, которых можно потом не «подправлять» всякими париками, наклейками или сложными гримами. Сделав свой выбор в таких райских условиях, не стоит затем искать возможности изменить выбранную тобой человеческую природу актера, если хочешь, чтобы он и впрямь оставался на экране собой в новых обстоятельствах жизни, а не кем-то другим, ни в чем на себя, настоящего, не похожим.
После того как актер утвержден на роль, я стараюсь предоставить ему на съемках как можно больше свободы, ровно столько, сколько он ее заслуживает: одни требуют минимального вмешательства, лишь общего определения данного, снимаемого куска, другие, напротив, ждут кропотливой работы с ними. Но и от актера – помимо режиссера – зависит очень многое. Он окончательно формирует образ, дает ему свою специфическую окраску. Более того, от актера в конечном счете полностью зависит результат, итоговое звучание образа.
– А как вы вообще относитесь к фильмам научно-фантастическим?
– Как правило, они меня раздражают. Например, «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика мне кажется совершенно неестественной: выморочная, стерильная атмосфера, будто в музее, где демонстрируются технические достижения. Но кому интересно произведение, где технические достижения сами по себе стоят в центре внимания художника? Ведь искусство не может существовать вне человека, вне его нравственных проблем.
– Ваше искусство сильно прежде всего вашей лирической интонацией, вашим взволнованным ощущением русского пейзажа – и это волнение передавалось зрителю. Не боитесь ли вы, уйдя в атмосферу умозрительно сконструированную, вненациональную, утерять в себе что-то главное?
– Нет, потому что национальная принадлежность искусства не обязательно и не прямо связана с темой и характерами. Картина должна быть русской в самом отношении к той или иной проблеме, в разрешении ее, в следовании лучшим традициям русской демократической культуры. Я думаю, что даже рассуждая таким образом, я уже следую традициям русской литературы. В самом деле, когда Пушкин пишет своего «Скупого рыцаря», то что это меняет? Все равно это русская поэзия…
– И все-таки вы собираетесь разворачивать действие фильма не только в Космосе, но и на нашей Земле. Не можете с ней расстаться? Ведь в романе Лема действие происходит только на планете Солярис…
– Да, Земля мне нужна для контраста! Но не только для этого… Мне необходимо, чтобы у зрителя возникло ощущение прекрасной Земли. Чтобы, погрузившись в неизвестную ему дотоле фантастическую атмосферу Соляриса, он вдруг, имея возможность вернуться на Землю, снова обретал возможность вздохнуть свободно и привычно, чтобы ему стало щемяще легко от этой привычности. Короче, чтобы он почувствовал спасительную горечь ностальгии. Ведь Кельвин решает остаться на Солярисе и продолжать исследования, чтобы исполнить там свой человеческий долг. Вот тут и понадобится Земля для того, чтобы зритель полнее, глубже острее пережил вместе с героем весь драматизм его невозвращения на ту планету, которая была (и есть) его и наша настоящая родина.
Да. Несомненно. В «Солярисе» снова возникает мотив преодоления. Преодолевать должен, оказывается, не только герой, но и зритель. Для того чтобы пережить вместе с героем всю горечь его решения не возвращаться домой, зритель должен пережить вместе с ним всю притягательность нашего земного существования… В деталях! В оттенках! Чтобы соразмерить в своем переживании цену приносимой Кельвином жертвы.
Фома – это характер скрытный, характер в себе. Мы только ощущаем какие-то неясные внутренние толчки, до конца не выраженные побуждения, но они не перестают нас тревожить, хотя редко получают то или иное разрешение в действии. Впрочем, иногда получают! Например, мы чувствуем в Фоме Кононова какое-то внутреннее брожение неудовольствия, зреющее внутреннее раздражение сомнениями Рублева. Но мы не можем ожидать, что в следующий момент этот паренек громко захлопнет Библию в решительном намерении покинуть артель. Быстро вскочит и также быстро отберет себе нужные кисточки, нервно закидывая их в дорожную котомку – простите-прощайте! Ну, достали уже… Хватит! Терпение лопнуло!
Ведь другой персонаж Кононова из фильма «В огне брода нет», парень из деревенской бедноты, оказавшийся в Красной армии, вовсе мало чего понимает, как в происходящем вокруг, так и в самом себе. Не умеет до конца понять, не умеет тем более выразиться, хотя глубоко почувствовал свою любовь. Тогда как замкнутый и углубленный в себя Фома вдруг оказывается вполне зрелой и состоявшейся личностью, готовой к самостоятельному решению.
Как тонко прослеживаются в исполнении Кононова тончайшие движения развития внутреннего мира его персонажа. Вот он, будучи еще желторотым мальчишкой, попавшим в артель учеником, беспомощно орет, ошалело вытаращив глаза, принимая наказание от своего учителя Феофана, дерущего его за уши… Но это вовсе не означает, что он тут же поспешит выполнить данное ему поручение. Нет! В Фоме Кононова изначально чувствуется некая самость, которая задает ему тот собственный путь, идти по которому можно, только ослушиваясь. Ну, влечет его в сторону какая-то неведомая сила, заставляя его, шагающего по лесу, не просто заметить в траве разлагающегося лебедя, но не устоять также перед соблазном «исследователя», приподнявшего крыло разлагающейся падали, чтобы задуматься… Наверное, о скоротечности бытия, о преображении прекрасного в безобразное… На ситцевой мордашке Фомы проступает какая-то особая одухотворенность приобщения к открывающейся тайне и завороженность перед постигаемым и непостижимым таинством бытия-небытия…
Кононов проживает вместе с Фомой некое внутреннее созревание в тишине. Взросление смешного и нескладного мальчишка, все более готового принимать свои собственные, независимые решения. Он не сливается с окружением, всегда погруженный в себя, чтобы в своей сознательной самоизоляции осознать собственную индивидуальность, которая составляет предмет его гордости. С каким вниманием и обращенной в себя лукавой улыбочкой слушает он споры Феофана и Андрея, не пропуская ни единого слова, но с чувством независимого внутреннего превосходства. Весь его облик словно говорит о том, что он-то сам знает уже нечто такое, о чем больше никто не подозревает, – знает, да не проболтается! И, кстати сказать, весь визуальный образ зимней Голгофы воссоздан воображением Фомы…
И когда Рублёв ругает своего нерадивого ученика, тот, пожалуй, даже огорченно ему сочувствует. Фома расценивает брань Учителя, как досадную несправедливость к себе и недооценку его Рублевым: «Ведь сам говорил, что голубец люблю», то есть если сам признавал за мной кое-какие способности, так чего же теперь забываешься…
Фома – натура художественно одаренная, но не успевшая найти себя и раскрыться до конца. Диковатая замкнутость, ершистая ребячливость и своенравность – внешние проявления того заточенного в нем бесенка, который жаждет самоутверждения. Фому Кононова можно сравнить с ценной виноградной выжимкой, которая уже начала бродить и вот-вот вытолкнет пробку, закупоривающую бутыль. Это личность в зародыше, но личность многообещающая. Завязь, не успевшая дать плод. И потому даже на фоне варварского и тотального разрушения Владимира убийство Фомы все равно звучит особенно трагично. Длинный кадр гибели несуразного мальчишки, только что казавшегося таким простым и по-земному чудаковатым, вдруг вырастает до символа. В странном полете-падении Фомы с распластанными руками, удивленно запрокинутой головой и торчащей из-за спины пронзившей его стрелой, подобной крылу, видится нечто серафическое…
«Солярис»
Переходя к следующей картине Тарковского, следует вспомнить, что ее появлению предшествовали пять лет безработицы в связи с широко известной драматической судьбой «Андрея Рублёва», получившего премию ФИПРЕССИ на кинофестивале в Канне в 1969 году, но фактически надолго закрытого для просмотра у себя на родине. Кажется, лишь только в 1971 году фильм впервые появился в прокате, но сразу же в кинотеатре «Повторного фильма», находившегося тогда у Никитских ворот. И речи не шло о полномасштабном прокате «Андрея Рублёва». Разные клубы, чаще всего полулегально, получали копию себе на просмотры. Как правило, эти просмотры организовывались «из-под полы» Ларисой Тарковской с ее вечной помощницей и ассистентом режиссера Машей Чугуновой. Так что возможность опубликовать первое интервью с Тарковским о съемках «Соляриса» после стольких лет молчания казалось почти чудом, которое совершилось в «Искусстве кино» (№ 11, 1971).
Зачем прошлое встречается с будущим?
Известие о том, что Андрей Тарковский экранизирует научно-фантастический роман польского писателя Станислава Лема «Солярис», со многих точек зрения показалось неожиданным и труднообъяснимым.
В сложном творчестве Тарковского, вызывающем острые дискуссии, включиться в которые мне здесь не удастся, меня всегда привлекала прочная привязанность режиссера к русской земле, всегда казалось, что одно из самых притягательных свойств его режиссуры, даже в наиболее дискуссионных фильмах, – это стремление передать ее дыхание.
Вот наша земля, поруганная фашистами, застыла тяжело и скорбно в «Ивановом детстве», ощетинилась черными пепелищами… Вот та же земля раскинулась в воспоминаниях о счастливой мирной жизни, обласканная солнцем, умытая грибным дождем, усыпанная яблоками, которых так много, что изумленные лошади берут их в свои мягкие губы, лишь нежно и слегка надкусывая это щедро раскинутое перед ними сокровище…
Тарковский умеет заставить нас, как это происходит в «Рублеве», буквально физически ощущать тяжело нависший зной, напоенный сонным, томительным жужжанием пчел, и теплую пыль дороги в цветущем гречишном поле, и запах дыма в сыром воздухе, когда сгребают и жгут опавшие листья, умеет заставить нас сладко поежиться в тумане предрассветного часа… У него не бывает просто фона, пускай даже выразительного, – это всегда реальность, в которой мы существуем вместе с героями. Причем реальность, которая нередко становится нам близкой, трепетно-неповторимой, исполненной глубокого лирического значения.
Потому что взаимоотношения Тарковского с предметным, вещным миром особые… И принципиально важные для его художественного метода. «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку»… Тарковского мучает эта невозможность. Он хочет ухватить, удержать мгновение, позволить нам снова переживать его в непосредственности тех же повторяющихся ощущений от снова видимого, осязаемого, чувственно-неповторимого, существующего в возвращающемся времени, то есть времени вечном.
Детализированный Тарковским материальный мир в процессе своего существования, развития, разложения и исчезновения во времени бережно и с мучительным трепетом душевным ощущается художником как ускользающая красота. А драматизм этого процесса в быстротекущем времени запечатлевается Тарковским на пленке во всей своей осязаемости и фактурной определенности, чтобы заявить на своем экране о глубокой поэтической значимости фактографического.
Так что же будет делать Тарковский в холодных, астральных просторах, созданных мечтой польского фантаста? Тарковский – поэт, бесконечно изумляющийся натуре, умеющий общее видеть лишь в конкретном и вещном его образе…
Не изменит ли Тарковский самому себе, переносясь из просторов родной земли, навсегда сросшейся с его человеческой сущностью, в мир, существующий лишь в вымысле?
С этого вопроса-монолога я и начала свою беседу с будущим создателем русской экранной версии польского романа «Солярис».
– Действительно, я никогда не думал, что буду ставить картину научно-фантастическую. Однако как-то прочитал роман Станислава Лема «Солярис» и увлекся, понял, что мне его поставить было бы интересно.
Впрочем, должен сразу оговориться, что привлек он меня прежде всего не фантастичностью рассказанных событий, не изумляющей неожиданностью сочиненного автором мира. Поразила меня как раз реалистичность автора в разработке ситуации, принципиально возможной, точность психологических мотивировок в поведении героев, попавших в эту ситуацию…
Так что же происходит в романе? Человек встречается в космосе с какой-то новой, доселе ему неизвестной формой сознания – разве в этом есть что-то невероятное? Ведь космос – это не просто бесконечно распространенное вместилище представлений, закономерностей, уже данных нам на Земле, в нашем земном опыте. В космосе мы столкнемся с качественно неизвестным. И можно только предполагать, только гадать, что за мир нам будет предложено познать… Наш будущий фильм – не попытка создать зашифрованный, иносказательный образ существующей реальности, а путь исследований человека, оказавшегося в абсолютно новой, неожиданной для него среде.
Это один из аспектов замысла.
Развитие научного прогресса открывает перед человеком невиданные возможности. Трудно переоценить значение научно-технической революции, развертывающейся сейчас во всем мире, но тем более важно не дать использовать ее достижения против человека, как это происходит уже на Западе. Вот почему так нужно уже в нашем сегодня постараться определить те нравственные критерии, те внутренние, духовные ценности, которые окажутся необходимы и в будущем, вне которых немыслимо будет обратить во благо человеку его же собственные достижения. И вот почему я думаю, что новые научные, технические проблемы, возникающие перед нами в ходе научно-технической революции, ставят перед каждым человеком задачу подняться на иной, более высокий нравственный уровень. Эта проблема тоже поставлена в романе «Солярис», и она нас волнует тоже в силу своей реальности, а не фантастичности.
Наконец, мне показалось интересным рассказать о человеке (его зовут Кельвин), раскаявшемся в своем прошлом и захотевшем пережить его вновь, чтобы изменить. Тем более что именно такую возможность предлагала ему ситуация, обнаруженная на станции «Солярис». Ведь, как вы помните, в романе Лема эта вымышленная планета представляет собой нечто вроде гигантского мозга, в недрах которого материализуются те образы, что запрятаны нашими героями в самые потаенные глубины их душ, те образы, что более всего тревожат их совесть и о которых они давно стараются не напоминать самим себе.
Но прошлое всегда с ними. И именно так, в порядке такого напоминания, приходит к Кельвину Хари – девушка, которую он любил на Земле.
Герои – исследователи этой планеты – поставлены в небывалые прежде условия: им необходимо наладить контакт, общение с живой материей Соляриса, понять, с какой целью и по каким законам производит она (или по каким законам в ней происходят) обнаруженные героями превращения. Каждый из исследователей так по-разному относится к странным сигналам планеты. Кельвин пытается заново прожить свое прошлое, но, увы, ему ничего не удается в нем исправить. Оно необратимо, как необратим тот душевный урон, который мы порой, сами того не желая, наносим своим близким.
В неизбежной ответственности человека за каждый свой поступок видится нам третий мотив будущего фильма.
– Будет ли продолжена в новой картине какая-либо тема из ваших предыдущих работ?
– Мои фильмы, более или менее мне удавшиеся, в конечном счете свидетельствуют об одном и том же. А героев моих объединяет одна и та же страсть – к преодолению. Никакое познание жизни не дается им без колоссальной затраты духовных сил. Тяжелыми потерями может оплачиваться глубина и богатство постигаемого. Чтобы прийти к пониманию законов жизни, чтобы осознать в себе и в окружающем то лучшее, что составляет ее красоту и внутреннюю правду нашего существования, нашего бытия (а не только бытования!), для того, чтобы остаться верными самим себе, своему долгу перед людьми и перед собой, все мои герои проходят, должны пройти через напряженные размышления, искания и постижения. И чем более глубоко проникнут они в сложность и трудность стоящих перед ними в этом мире задач, тем значительнее и убедительнее окажется их решимость противопоставить тяжелому и горькому человечное, светлое, доброе…
…Действительно, вспомним, что еще в первом фильме Тарковского, в «Ивановом детстве», герой фильма – мальчик оказывался лицом к лицу с оголтелой жестокостью, вопиющим, наглым насилием – лицом к лицу с фашизмом. И ребенок, средоточие самых справедливых, гармоничных представлений о мире – само будущее мира, – не сдавался, испуганный, отчаявшийся и растерзанный, а, напротив, обретал в себе несгибаемую силу противостояния злу. Иван добровольно взваливал на себя все бремя ответственности. И хотя это бремя оказывалось для него безмерно тяжелым, в гибели Ивана была не только жестокая правда реальности. Потому что истинная – и безмерно высокая – ее правда состояла в том, что мальчик не мог остаться в стороне, отринуть от себя всю тяжесть ответственности спасения мира от безумия фашизма. Сознавая свою личную ответственность за все, что происходило на его родной земле, он, преодолевая даже собственный возраст, сражался, как настоящий солдат, за восстановление гармоничной целостности мира. Иван ощущал свою личную внутреннюю ответственность за возрождение того прекрасного мира, который возвращается к нему в снах, готовый для этого к любым «перегрузкам», казалось бы, непосильным для ребенка. Но именно в этой внутренней стойкости мальчика виделась режиссеру сущность настоящего человека, высшая правда о нем.
– …Вот и теперь, в моем будущем фильме, как бы подхватывая и развивая это мое соображение, – говорит Тарковский, – Кельвин должен сохранить человеческое достоинство в ситуации, поистине нечеловеческой и трудно вообразимой. В этом и есть его нравственный долг, который он выполнит, хотя для этого ему придется многим пожертвовать, многое преодолеть. Чтобы остаться верным себе, своим представлениям о справедливом и гуманном в нашем мире, ему нужны силы, стойкость, настоящая убежденность, нужен тот духовой заряд, во внутренней природе и «структуре» которого мы и собираемся разбираться в нашем фильме.
– А каковы особенности формы, поэтики будущего фильма?
– Мне представляется, что в кино главная задача состоит в том, чтобы достигнуть максимальной непосредственности, видимой непроизвольности изображения, то есть, условно говоря, безусловной реалистичности повествования. Такую задачу нам предстоит решать и на этот раз: как оператору В. Юсову, так и художнику М. Ромадину. Картина должна быть предельно простой по форме, ни в коем случае не удивлять разного рода фокусами и трюками, так называемой «зрелищностью» или настырной «выразительностью» кадра. Хотя фильм все же будет, увы, цветным.
– Неужели? Ведь помнится, что вы были принципиальным противником применения цвета в кино?
– Был! Но что делать с «прогрессом»? Уж коли цвет изобрели, то приходится думать о том, как его использовать, теперь от этого никуда не денешься…
– Ну, а по жанру вашу картину можно будет назвать научно-фантастической?
– На этот вопрос мне трудно ответить. Видите ли, по-моему, самое понятие жанра в кино относительно, условно, изменчиво. Ведь художественно-игровой кинематограф оперирует образами самой действительности. Ни одно искусство не может зафиксировать реальность во всех ее физических проявлениях, и существующих в каждый данный, конкретный момент, и изменяющихся во времени. Мне уже приходилось писать об этом более подробно. Сегодня, делая эту картину, я только могу сказать, что, с моей точки зрения, течение фильма, его ткань должны быть как можно ближе к самой действительности. А действительность, если позволительно так будет выразиться, не имеет жанров – в ней сплелось все: грустное и смешное, драматическое и лирическое, трагедийное и фарсовое. Поэтому, если мы хотим делать произведения искусства, а не просто зрелища, то нам надо думать не о заранее размеченных «жанровых границах», а о возможности более полной и всесторонней передачи действительности. Так, чтобы в фильме совместились – органично, естественно – комедия и драма, эпос и лирика. Мы должны исходить из предпосылки, что зритель идет в темный зал кинотеатра за уникальным событием, запечатленным пленкой в его чувственном, неоспоримо реальном движении, за живым опытом, хранящимся теперь в коробках и воспроизводимом на экране. Опытом, на свой лад пережитым художником в самой реальности.
– Но если кинематограф, который вас привлекает, апеллирует всегда к образам самой действительности, к восприятию реально пережитого художником опыта, то в вашем новом фильме вас тоже должны интересовать прежде всего люди, их взаимоотношения, но не фантастическая среда, в которой они действуют. Какой же видится вам эта несуществующая в реальности среда, которую нужно измыслить?
– Конечно, действие «Соляриса» происходит в атмосфере уникальной, невиданной. Но наша задача состоит в том, чтобы максимально конкретизировать эту уникальность в ее чувственных, внешних приметах. Чтобы она была материальна, ощутима – ничего эфемерного, неопределенного, специально, нарочито фантастичного. Чтобы на экране были «мясо», фактура самой среды. Я против велеречивой, якобы что-то в «универсуме» обобщающей «поэтической» условности. Я всегда за конкретность атмосферы, среды, героя. Хотя в данном случае приходится столкнуться с той конкретностью, которой никто в глаза не видел и руками не щупал!
– Но тогда как должны чувствовать себя ваши актеры в атмосфере пока невиданного и неслыханного? Каким образом вы формулируете их задачу в таких непростых обстоятельствах?
– Я считаю, что решающим условием успеха актера в кино является его как можно более полное изначальное внешнее и внутреннее совпадение с изображаемым персонажем. Я стараюсь найти таких актеров на каждую роль, которые могли бы просто оставаться собой в предлагаемых обстоятельствах и не пытались что-то играть, придумывая какой-то образ. Боже упаси! Ведь именно кино предоставляет такую неограниченную свободу выбора, позволяя распорядиться практически неисчислимой «труппой» актеров, которых можно потом не «подправлять» всякими париками, наклейками или сложными гримами. Сделав свой выбор в таких райских условиях, не стоит затем искать возможности изменить выбранную тобой человеческую природу актера, если хочешь, чтобы он и впрямь оставался на экране собой в новых обстоятельствах жизни, а не кем-то другим, ни в чем на себя, настоящего, не похожим.
После того как актер утвержден на роль, я стараюсь предоставить ему на съемках как можно больше свободы, ровно столько, сколько он ее заслуживает: одни требуют минимального вмешательства, лишь общего определения данного, снимаемого куска, другие, напротив, ждут кропотливой работы с ними. Но и от актера – помимо режиссера – зависит очень многое. Он окончательно формирует образ, дает ему свою специфическую окраску. Более того, от актера в конечном счете полностью зависит результат, итоговое звучание образа.
– А как вы вообще относитесь к фильмам научно-фантастическим?
– Как правило, они меня раздражают. Например, «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика мне кажется совершенно неестественной: выморочная, стерильная атмосфера, будто в музее, где демонстрируются технические достижения. Но кому интересно произведение, где технические достижения сами по себе стоят в центре внимания художника? Ведь искусство не может существовать вне человека, вне его нравственных проблем.
– Ваше искусство сильно прежде всего вашей лирической интонацией, вашим взволнованным ощущением русского пейзажа – и это волнение передавалось зрителю. Не боитесь ли вы, уйдя в атмосферу умозрительно сконструированную, вненациональную, утерять в себе что-то главное?
– Нет, потому что национальная принадлежность искусства не обязательно и не прямо связана с темой и характерами. Картина должна быть русской в самом отношении к той или иной проблеме, в разрешении ее, в следовании лучшим традициям русской демократической культуры. Я думаю, что даже рассуждая таким образом, я уже следую традициям русской литературы. В самом деле, когда Пушкин пишет своего «Скупого рыцаря», то что это меняет? Все равно это русская поэзия…
– И все-таки вы собираетесь разворачивать действие фильма не только в Космосе, но и на нашей Земле. Не можете с ней расстаться? Ведь в романе Лема действие происходит только на планете Солярис…
– Да, Земля мне нужна для контраста! Но не только для этого… Мне необходимо, чтобы у зрителя возникло ощущение прекрасной Земли. Чтобы, погрузившись в неизвестную ему дотоле фантастическую атмосферу Соляриса, он вдруг, имея возможность вернуться на Землю, снова обретал возможность вздохнуть свободно и привычно, чтобы ему стало щемяще легко от этой привычности. Короче, чтобы он почувствовал спасительную горечь ностальгии. Ведь Кельвин решает остаться на Солярисе и продолжать исследования, чтобы исполнить там свой человеческий долг. Вот тут и понадобится Земля для того, чтобы зритель полнее, глубже острее пережил вместе с героем весь драматизм его невозвращения на ту планету, которая была (и есть) его и наша настоящая родина.
Да. Несомненно. В «Солярисе» снова возникает мотив преодоления. Преодолевать должен, оказывается, не только герой, но и зритель. Для того чтобы пережить вместе с героем всю горечь его решения не возвращаться домой, зритель должен пережить вместе с ним всю притягательность нашего земного существования… В деталях! В оттенках! Чтобы соразмерить в своем переживании цену приносимой Кельвином жертвы.