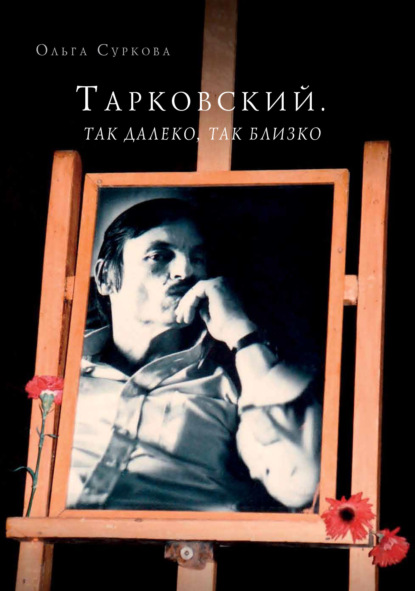По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тарковский. Так далеко, так близко. Записки и интервью
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Андрей займет свое царственное место. Лариса войдет, как Элизабет Тейлор, подрастающая Ляля, дочь Ларисы, постепенно займет свое место рядом с Андреем… Тяпа, их сын, мелькает еще ребятенком… Андрей непременно будет произносить длинные тосты… Скажет о том, как он не выжил бы без Ларисы и какая святая женщина Анна Семеновна… Она будет, как всегда, смущена, а Андрей встанет из-за стола, чтобы подойти к ней и поцеловать руку, может быть, даже припав на колено…
Гостей бывало много, но, как правило, «своих», близких к семье или приближенных в этот момент в связи с общим делом… Сидели за столом далеко-далеко за полночь… И тем не менее оставались горы еды, которую и мне иногда приходилось потом еще долго доедать…
В моей старой записной книжке до сих пор сохранился текст телеграммы, которую мы с отцом отправляли тогда еще по старинке, то есть по телефону, а не по электронной почте или факсу. Это было время, когда Тарковский закончил свой «Солярис» после многолетнего «послерублевского» простоя, и мы писали: «Милый Андрей Арсеньевич. Поздравляем днем рождения. Ликуем по поводу включения открытой Вами планеты Солярис в карту небосклона. Рукоплещем в Вашем лице блистательному искусству землян, способному потрясти обитателей, казалось, безнадежно неконтактных соседних миров. Будьте здоровы, счастливы. Обнимаем. Ваши Сурковы».
Что можно к этому добавить сегодня, кроме нового признания в любви, замешенной на живой горечи, что он ушел так рано, не оставив нам еще своего кинематографического «Гамлета», «Святого Антония» или экранного диалога с Достоевским?
Тарковский любил домашнее торжественное застолье, без которого и не помыслить его дня рождения.
А еще Тарковский был мистиком, и мы, наверное, обсудили бы с ним, почему день его 70-летия, 4 апреля, совпадает с четвертым днем недели… Что бы это могло значить?..
С Тарковским в России
«Андрей Рублёв»
Я забросила математическую школу и решила поступать во ВГИК на киноведческое отделение, случайно посмотрев первый фильм Тарковского – «Иваново детство». Так он меня потряс! С Тарковским я не была знакома. И знакомство это состоялось на втором курсе моего обучения в феврале 1966 года, когда с огромным трудом мне удалось пробиться на практику к Андрею Тарковскому, снимавшему тогда «Андрея Рублёва». Обо всем этом в следующих главах, а пока – мой студенческий отчет о проделанной работе и характеристика Тарковского, выданная мне для отчета о моей практике в институте…
Заключение на сценарий Кончаловского, Тарковского «Андрей Рублёв»
Работа студентки II курса киноведческого факультета Сурковой Ольги
Хочется начать с того, что авторы взялись за чрезвычайно сложную и неожиданную тему. Так что необходимо глубоко разобраться, чем же продиктован столь удивительный интерес.
Как известно, история располагает самым незначительным материалом, а точнее, почти вовсе не располагает никаким материалом о жизни величайшего гения русской иконописи. Хотя его работы сохранилось, по-видимому, в небольшой своей части. И единственное, что хорошо изучено – это сама историческая эпоха, ее своеобразие.
Но, оказывается, именно эти выше изложенные обстоятельства толкнули авторов взяться за работу о Рублёве, ибо они не задавались целью создавать обычный биографический фильм о его жизни и творчестве, а, вникая в особенности исторической эпохи, а также анализируя оставшиеся произведения художника, попытаться представить не столько фактическую жизнь знаменитого иконописца, сколько, перевоссоздавая в фильме образ того времени, уловить природу и истоки философического осмысления художественного творчества вообще. Не будучи скованными никаким точным фактическим материалом – поразмыслить о формировании художественного таланта, о призвании художника, о вечных задачах искусства. И затем, уже воспользовавшись переосмысленным материалом, раскрыть свою авторскую позицию, позицию людей XX века.
Потому не имеет смысла говорить о точном соответствии исторического колорита, ибо это фильм не исторический и не будет на это претендовать. Скорее стоит обратить внимание на необыкновенно интересное, эмоционально окрашенное осмысление прошлого в очень субъективном восприятии авторов.
Но центральная проблема сценария – отношение художника к человеку, к человечеству вообще, составляющие суть его позиции в искусстве, его понимания задачи творчества.
Носителями двух противоположных идейных соображений, прямо-таки антагонистических взглядов являются два гениальных художника Андрей Рублёв и Феофан Грек. Они – два полюса, два антипода, два взаимоисключающих восприятия мира.
И там, где Феофан Грек утверждает: «Греховодить, лизоблюдить, богохульствовать – вот это людское дело. Да и по доброй воле они вместе собираются, лишь чтобы какую-нибудь мерзость свершить», Андрей Рублёв возражает: «Не так уж худо все. Врагов на Куликовом разбили? Разбили. Все вместе собрались и разбили. Такие дела только вместе делать надо… Да разве не простит таких Всевышний? Разве не простит им темноты их? Сам знаешь, не получится иногда что-нибудь или устал, измучился и ничего тебе облегчение не приносит, и вдруг с чьим-то взглядом, простым человеческим взглядом в толпе встретишься и словно причастился… и все легче сразу… Разве нет?»
Часть этого разговора происходит на фоне «двух Голгоф», то есть двух диаметрально противоположных трактовок одного и того же Великого события – распятия Христа. Конечно, иллюстрируя такую дискуссию евангельской темой, авторы сообщают ей особую значительность или общечеловеческую значимость.
Это спор о самом главном в жизни. Это спор непримиримый, и никто не переубедит своего противника. Но авторы избегают при этом всякой патетики. Они сознательно разговор о важнейшем низводят в повседневность, только в простой разговор двух людей, гуляющих после работы вдоль берега реки. Но именно в этом особенность поэтики этого сценария… Впрочем, подробнее об этом ниже.
Две концепции творчества рождаются из двух диаметрально противоположных позиций в отношении к человеку, к людям как таковым. Феофан восклицает в этом споре с Рублевым: «Где они, твои праведники?! А? Бессребреники твои?! Покажи мне, сделай милость! Истинно сказано: страшен Бог в великом сонме святых! Страшен! Не будет страха – не будет Веры!» То есть Феофан полагает, что людям необходим страх грядущей кары – лишь мысль об ужасной расплате за все грехи может воспрепятствовать их врожденной мерзости и жестокости. А потому искусство призвано вразумить людей, показывая им ожидающее их за грехи возмездие.
Но Рублёв непреклонен до изумления: «И как ты с такими мыслями писать можешь, не понимаю?» А потому смятение охватывает его, когда возникает необходимость писать фреску «Страшного суда» в Успенском соборе. «Не могу я чертей писать! – вдруг кричит он Даниилу. – Противно мне, понимаешь?! Народ не хочу распугивать!» И только потом его осеняет… Вдруг… Под чтение Священного Писания: «…и не муж создан для жены, а жена для мужа. Потому жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею ангелов… Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой?» – тогда вспоминается ему «девичье поле», где женщины добровольно давали татарам обрубить свои волосы, чтобы спасти город, спасти мужей. Выкупом были назначены два обоза женских волос. Но ведь это будто бы грех, за который тоже воздастся на Страшном суде? Но нет: «Праздник, Даниил! Праздник! – потрясенный, возвещает Рублев. – А вы говорите, Страшный суд! Какие же они грешницы, даже если платки снимали?» И возникает созданный Рублевым «Страшный суд» с его «Праведными женами».
То есть прощает Рублёв людей, сострадая их бедствиям. Считает, что люди ведут себя героически, а ко греху вынуждаются необходимостью. Думает он, что изначально люди добры, справедливы и смиренны. И художник призван облегчить им жизнь, даруя возможность поверить, что хоть когда-нибудь за все их страдания воздастся им сторицей. Ведь Бог-то справедлив и милостив, все видит, все понимает. А потому искусство должно быть в помощь людям, даруя им веру и надежду. Оно же и Добру их научит.
Но жизнь приносит художнику страшные испытания, которые становятся проверкой твердости его позиции, его убеждений. Создается ситуация, казалось бы, обнажающая всю несостоятельность, утопичность, прекраснодушный идеализм взглядов Рублева. Это одно из кульминационных мест сценария. Сожжение Успенского храма вместе с рублевским иконостасом дружинами Малого князя российского, не погнушавшегося еще прибегнуть к помощи иноверцев татар. Потрясенный трагедией, Рублёв как бы переоценивает ценности, как это написано в сценарии, будто бы продолжая свой разговор с тенью покойного уже Феофана Грека. Но если раньше он спорил с Феофаном, то теперь готов полностью с ним согласиться: «…полжизни в слепоте провел! Полжизни, как этот… я же для них, для людей, делал днями и ночами. По три дня на свет смотреть не мог: глаза болели. Тешил себя, что радость это для них, что в помощь вере? А они, православные-то, взяли иконостас мой и так вот просто и пожгли. Спалили! Не люди ведь это, а?»
Теперь Рублёв согласен с Феофаном, но это не значит, что он станет работать по его канонам. Он лучше совсем не будет работать: «Не нужно это никому. Если не смог своим искусством убедить, что люди они, – значит вовсе нет таланту! А потому больше к кистям, краскам не притронусь». В сценарии сцена эта решается спором с самим собой, тем неразрешаемым внутренним конфликтом, который заставляет Андрея отречься от жизни, наказав себя епитимьей молчания.
Рублёв уходит от людского, сторонясь дел человеческих. Он оскорблен их низкими помыслами и грязными деяниями. И вся его былая любовь к человечеству преобразуется теперь в любовь к невинной блаженной. Ко всему остальному он безразличен, он теперь сторонний наблюдатель, он не хочет, да и не будет, ни во что вмешиваться.
И здесь в сценарии возникает история Бориски, совсем юнца, решившегося с голодухи и отчаяния отливать колокол Великому князю. Волею случая Андрей становится свидетелем и незаметным для Бориски наблюдателем всего происходящего. И эта история мальчика, силою природного интуитивного мастерства сумевшего отлить колокол с чудесным звоном, заставляет Рублева снова пересмотреть свою жизнь. Он прижимает к себе плачущего от страшного волнения, перенапряжения и все-таки счастья мальчика и шепчет ему: «Не надо, не надо… Вот и все… ну и хорошо. Вот и пойдем мы с тобой вместе… Ну чего ты?.. Я – писать, ты колокола лить… А?.. Пойдем? Пойдем с тобой в Троицу, пойдем работать… какой праздник-то для людей… какую радость сотворил и еще плачет…»
Впервые за многие годы заговорил Андрей. И заговорил все-таки о радости для людей, о радости, которую сотворил для людей художник! Он понял, что был прав, что он должен работать и работать, чтобы доставлять людям эту радость, облегчать их почти беспросветно тяжелую жизнь.
Но он пришел к этому выводу навсегда и окончательно, лишь пройдя все круги ада. Он видел огонь, смерть, жестокость, подлость, лицемерие. И лишь за всем этим он смог увидеть жизнь человеческую, хотя и грустную, и часто страшную, но все-таки, несмотря ни на что, быть может, прекрасную. Во всяком случае, люди достойны того, чтобы не терять веры в то, что жизнь однажды будет, станет прекрасной и гармоничной. То есть через познание зла в полной мере он приходит к истинному и абсолютному пониманию добра.
Вот то главное, ради чего, по-моему, написан сценарий. А теперь перейдем к разбору его поэтики.
Сценарий разделен на отдельные новеллы, что, по-видимому, не случайно. Он сознательно написан вне канонической драматургической формы.
Отдельное новеллы – это эпизоды из жизни Рублева, или лучше назвать их моментами, чаще всего, кажется, вроде бы и не столь важные или вовсе не обязательные. Но это те мелочи, о которых человек, возможно, и не вспомнит с годами, но которые, незаметно откладываясь в сознании, формируют его характер и взгляды. Повторяю – это не ярко кульминационные, драматургически заостренные судьбоносные моменты жизни, а почти незамечаемые пометки времени, которые в результате определяют жизнь человеческую.
Более того, в сценарии эти часто как будто не связанные между собой моменты складываются в широкую, пожалуй, эпохальную картину жизни русского народа в конце XV – начале XVI века.
Авторы сознательно погружают своего героя в народную среду, растворяют его в ней. Он идет через жизнь, встречается с разными людьми, а мог бы и не встретиться, а мог бы и с другими людьми. Но принципиально важно для авторов, что герой изображается, как бы в свободном жизненном потоке, который и обтачивает, и шлифует его, как море камень. Жизнь сознательно дается как бы в неорганизованной форме, как будто бы документально. Подбор эпизодов может видеться случайным. Да и герой-то вовсе не герой в привычном понимании этого слова. Он редко становится центральным кадром, заполняя собой первый план. Он теряется в водовороте жизни, порою вовсе исчезая, порою неожиданно возникая вновь. Он как бы со стороны наблюдает жизнь, и авторы редко сосредоточивают наше внимание даже на его эмоциональном восприятии происходящего, тем более ничтожно мало он показан в действии. Не это занимает авторов. И тем не менее, как это ни парадоксально, все, что происходит в сценарии и будет происходить на экране, происходит только для него. И важно только одно, одно-единственное, последний вывод, в итоге к которому приходит герой. Только ради этого развертывается жестокая, порой, кажется, слишком жесткая картина жизни народной. Многие даже считают, что эта картина перегружена чрезмерным натурализмом, который создает трудности для ее восприятия. Я не разделяю этой точки зрения. Если мы принимаем данную драматургического форму в целом, а она уже была принята при утверждении сценария, то большие или меньшие откровения в демонстрации «ужасного» едва ли меняют дело. Такую меру трудно точно установить, а дозировать можно, ориентируясь лишь на собственный вкус! Тогда будет лучше и справедливее довериться и поверить режиссеру, по мере не своего, но его вкуса в соответствии с его же художественной задачей! Здесь речь идет о «чрезмерных» жестокостях в сцене пытки Патрикея, сцене ослепления и ряде других кусков, которые на самом деле как раз и призваны для того, чтобы мы, непосредственно вместе с Рублевым пройдя тяжкие испытания, вынесли, в конце концов, чувство необходимого просветления. Вот цель авторов!
Но я все-таки решительно против излишнего натурализма, который появился в последнем варианте сценария и который порою превращает серьезный художественный принцип в кокетство, где омерзительное обыгрывается не более как физиологически омерзительное. Например, я имею в виду сцену с Дурочкой, когда она ест поганые грибы. Но это лишь отдельные и немногие детали, которых, может быть, стоило бы избежать, чтобы ложка дегтя не испортила бочку меда, чтобы не скомпрометировать в целом тот художественный прием, который видится в данном случае единственно верным и необходимым. Потому что то драматургическое построение, о котором я говорила выше, кажется мне новым, нетрадиционным, интересным и перспективным.
Впрочем, еще одно небольшое опасение хотелось бы выразить авторам фильма. Порою они отступают от ими же выработанной формы, используя более искусственные конструкции. Как я уже говорила, все, что происходит с героями, происходит как бы случайно, словно авторы не вмешиваются в события, избегая использования традиционной драматургической фабулы. Потому с большим недоверием воспринимается как бы «случайное» повторное появление скомороха. Он не нужен еще в одной сцене только для того, чтобы продемонстрировать свой отрубленный язык – слишком прямой символ! Образ жестокого времени звучит лаконичнее, если остановиться на том предполагаемом нами убийстве скомороха дружинниками, которому мы оказались свидетелями в начале фильма. То же самое можно сказать о сцене с беглым.
Конечно, все это отдельные мелочи, но большая строгость в отборе материала и средств выражения, как мне кажется, пошла бы на пользу картине с точки зрения чистоты ее стиля и жанра. Впрочем, картина пока еще находится в производстве, и трудно предположить, какой она окажется в своем завершающем варианте. На данный момент режиссерский сценарий менялся уже четыре раза. Тарковский не относится к режиссерам, которые могут сказать вслед за Рене Клером: «Фильм готов, остается только его снять». У Тарковского фильм никогда не готов. Он может делать и переделывать его непрерывно. Его творческая фантазия работает безостановочно. Так что, возможно, многое, о чем я веду речь здесь, будет читаться иначе уже в следующем варианте режиссерского сценария и совсем иначе в готовом фильме. Но пока я позволю себе обратить внимание еще на некоторые изменения, внесенные в последний вариант. Не буду при этом задерживаться на тех неизбежных сокращениях в диалогах, которым попросту не хватает места, но которые не меняют существа вопросов.
Мне представляется очень верным, что из сценария выбросили детские воспоминания Рублева, избежав тем самым таящейся опасности слишком прямых ассоциаций со снами, так блестяще воссозданными в «Ивановом детстве». Зачем повторяться?
Зато мне кажется очень интересной новая сцена казни перед собором в Москве, которой раньше не было. Таким образом, картину избавили от маловыразительной сцены с мужиками, несущими Феофану доску. Но дали возможность по-новому и неожиданно развернуть к нам личность Феофана Грека, приоткрывая его потаенные ощущения и глубоко запрятанные переживания. (Мне кажется очень важным его окрик толпе с балкона: «Долго ли, православные, злодея будете мучить? Он своими страданиями давно уже все грехи искупил».)
Мне кажется также правильным, что убийство Рублевым татарина вынесено за кадр, и мы узнаем о нем только в пересказе. Такое решение точнее расставляет акценты и ближе поэтике сценария, о которой говорилось выше.
Неизмеримо сильнее звучит сцена «Ослепление» в новелле «Колокол» как воспоминание Андрея. Прекрасная сама по себе, она звучит еще напряженнее в столкновении с темой Бориски. Повторяю – обе новеллы, прекрасные сами по себе, взаимообогащаются, получая дополнительные важные оттенки.
Все прочие сокращения, увы, не на пользу будущему фильму. Однако сценарий не укладывается в доступный картине метраж, а потому приходится мириться с необходимостью изъятия некоторых кусков, которые могли бы еще более обогатить замысел.
Например, роды Дурочки, изнасилованной татарином, заменились более «мягкой» сценой ее соблазнения. Менее выразительно, конечно, но мысль, худо-бедно, сохраняется. Или две Голгофы, представленные воображениями двух иконописцев, сократились теперь до одной Голгофы Андрея Рублева. Понятно, как сильно проигрывает от этого будущая картина, теряя более сложное сочетание двух образов.
Впрочем, есть еще сокращения, идущие, с моей точки зрения, на пользу картине. Например, сцена, в которой Кирилл представляет, будто дерево убило Андрея. Это слишком прямое решение. Также можно указать еще целый ряд более мелких, но полезных для дела сокращений.
Хотя так жалко душевно, когда из сценария исчезает такая удивительная, грустная, прозрачная в своей интонации сцена, как «Охота на лебедей». Кажется, что ту сцену и впрямь можно выбросить безболезненно для основной мысли картины, но для зрителей теряется чарующая возможность, зная почерк Тарковского, взглянуть на этот мир поэтическим взглядом Рублева, улавливая через это восприятие тонкий символ. Это, быть может, одна из самых значительных потерь.
А вот и сама характеристика, которой я удостоилась, впервые побывав на съемках у Тарковского:
Мастеру II курса киноведческого факультета ВГИКа Н. Лебедеву.
ХАРАКТЕРИСТИКА
студентки-практикантки II курса киноведческого факультета
ВГИКа О.Е. Сурковой
Гостей бывало много, но, как правило, «своих», близких к семье или приближенных в этот момент в связи с общим делом… Сидели за столом далеко-далеко за полночь… И тем не менее оставались горы еды, которую и мне иногда приходилось потом еще долго доедать…
В моей старой записной книжке до сих пор сохранился текст телеграммы, которую мы с отцом отправляли тогда еще по старинке, то есть по телефону, а не по электронной почте или факсу. Это было время, когда Тарковский закончил свой «Солярис» после многолетнего «послерублевского» простоя, и мы писали: «Милый Андрей Арсеньевич. Поздравляем днем рождения. Ликуем по поводу включения открытой Вами планеты Солярис в карту небосклона. Рукоплещем в Вашем лице блистательному искусству землян, способному потрясти обитателей, казалось, безнадежно неконтактных соседних миров. Будьте здоровы, счастливы. Обнимаем. Ваши Сурковы».
Что можно к этому добавить сегодня, кроме нового признания в любви, замешенной на живой горечи, что он ушел так рано, не оставив нам еще своего кинематографического «Гамлета», «Святого Антония» или экранного диалога с Достоевским?
Тарковский любил домашнее торжественное застолье, без которого и не помыслить его дня рождения.
А еще Тарковский был мистиком, и мы, наверное, обсудили бы с ним, почему день его 70-летия, 4 апреля, совпадает с четвертым днем недели… Что бы это могло значить?..
С Тарковским в России
«Андрей Рублёв»
Я забросила математическую школу и решила поступать во ВГИК на киноведческое отделение, случайно посмотрев первый фильм Тарковского – «Иваново детство». Так он меня потряс! С Тарковским я не была знакома. И знакомство это состоялось на втором курсе моего обучения в феврале 1966 года, когда с огромным трудом мне удалось пробиться на практику к Андрею Тарковскому, снимавшему тогда «Андрея Рублёва». Обо всем этом в следующих главах, а пока – мой студенческий отчет о проделанной работе и характеристика Тарковского, выданная мне для отчета о моей практике в институте…
Заключение на сценарий Кончаловского, Тарковского «Андрей Рублёв»
Работа студентки II курса киноведческого факультета Сурковой Ольги
Хочется начать с того, что авторы взялись за чрезвычайно сложную и неожиданную тему. Так что необходимо глубоко разобраться, чем же продиктован столь удивительный интерес.
Как известно, история располагает самым незначительным материалом, а точнее, почти вовсе не располагает никаким материалом о жизни величайшего гения русской иконописи. Хотя его работы сохранилось, по-видимому, в небольшой своей части. И единственное, что хорошо изучено – это сама историческая эпоха, ее своеобразие.
Но, оказывается, именно эти выше изложенные обстоятельства толкнули авторов взяться за работу о Рублёве, ибо они не задавались целью создавать обычный биографический фильм о его жизни и творчестве, а, вникая в особенности исторической эпохи, а также анализируя оставшиеся произведения художника, попытаться представить не столько фактическую жизнь знаменитого иконописца, сколько, перевоссоздавая в фильме образ того времени, уловить природу и истоки философического осмысления художественного творчества вообще. Не будучи скованными никаким точным фактическим материалом – поразмыслить о формировании художественного таланта, о призвании художника, о вечных задачах искусства. И затем, уже воспользовавшись переосмысленным материалом, раскрыть свою авторскую позицию, позицию людей XX века.
Потому не имеет смысла говорить о точном соответствии исторического колорита, ибо это фильм не исторический и не будет на это претендовать. Скорее стоит обратить внимание на необыкновенно интересное, эмоционально окрашенное осмысление прошлого в очень субъективном восприятии авторов.
Но центральная проблема сценария – отношение художника к человеку, к человечеству вообще, составляющие суть его позиции в искусстве, его понимания задачи творчества.
Носителями двух противоположных идейных соображений, прямо-таки антагонистических взглядов являются два гениальных художника Андрей Рублёв и Феофан Грек. Они – два полюса, два антипода, два взаимоисключающих восприятия мира.
И там, где Феофан Грек утверждает: «Греховодить, лизоблюдить, богохульствовать – вот это людское дело. Да и по доброй воле они вместе собираются, лишь чтобы какую-нибудь мерзость свершить», Андрей Рублёв возражает: «Не так уж худо все. Врагов на Куликовом разбили? Разбили. Все вместе собрались и разбили. Такие дела только вместе делать надо… Да разве не простит таких Всевышний? Разве не простит им темноты их? Сам знаешь, не получится иногда что-нибудь или устал, измучился и ничего тебе облегчение не приносит, и вдруг с чьим-то взглядом, простым человеческим взглядом в толпе встретишься и словно причастился… и все легче сразу… Разве нет?»
Часть этого разговора происходит на фоне «двух Голгоф», то есть двух диаметрально противоположных трактовок одного и того же Великого события – распятия Христа. Конечно, иллюстрируя такую дискуссию евангельской темой, авторы сообщают ей особую значительность или общечеловеческую значимость.
Это спор о самом главном в жизни. Это спор непримиримый, и никто не переубедит своего противника. Но авторы избегают при этом всякой патетики. Они сознательно разговор о важнейшем низводят в повседневность, только в простой разговор двух людей, гуляющих после работы вдоль берега реки. Но именно в этом особенность поэтики этого сценария… Впрочем, подробнее об этом ниже.
Две концепции творчества рождаются из двух диаметрально противоположных позиций в отношении к человеку, к людям как таковым. Феофан восклицает в этом споре с Рублевым: «Где они, твои праведники?! А? Бессребреники твои?! Покажи мне, сделай милость! Истинно сказано: страшен Бог в великом сонме святых! Страшен! Не будет страха – не будет Веры!» То есть Феофан полагает, что людям необходим страх грядущей кары – лишь мысль об ужасной расплате за все грехи может воспрепятствовать их врожденной мерзости и жестокости. А потому искусство призвано вразумить людей, показывая им ожидающее их за грехи возмездие.
Но Рублёв непреклонен до изумления: «И как ты с такими мыслями писать можешь, не понимаю?» А потому смятение охватывает его, когда возникает необходимость писать фреску «Страшного суда» в Успенском соборе. «Не могу я чертей писать! – вдруг кричит он Даниилу. – Противно мне, понимаешь?! Народ не хочу распугивать!» И только потом его осеняет… Вдруг… Под чтение Священного Писания: «…и не муж создан для жены, а жена для мужа. Потому жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею ангелов… Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой?» – тогда вспоминается ему «девичье поле», где женщины добровольно давали татарам обрубить свои волосы, чтобы спасти город, спасти мужей. Выкупом были назначены два обоза женских волос. Но ведь это будто бы грех, за который тоже воздастся на Страшном суде? Но нет: «Праздник, Даниил! Праздник! – потрясенный, возвещает Рублев. – А вы говорите, Страшный суд! Какие же они грешницы, даже если платки снимали?» И возникает созданный Рублевым «Страшный суд» с его «Праведными женами».
То есть прощает Рублёв людей, сострадая их бедствиям. Считает, что люди ведут себя героически, а ко греху вынуждаются необходимостью. Думает он, что изначально люди добры, справедливы и смиренны. И художник призван облегчить им жизнь, даруя возможность поверить, что хоть когда-нибудь за все их страдания воздастся им сторицей. Ведь Бог-то справедлив и милостив, все видит, все понимает. А потому искусство должно быть в помощь людям, даруя им веру и надежду. Оно же и Добру их научит.
Но жизнь приносит художнику страшные испытания, которые становятся проверкой твердости его позиции, его убеждений. Создается ситуация, казалось бы, обнажающая всю несостоятельность, утопичность, прекраснодушный идеализм взглядов Рублева. Это одно из кульминационных мест сценария. Сожжение Успенского храма вместе с рублевским иконостасом дружинами Малого князя российского, не погнушавшегося еще прибегнуть к помощи иноверцев татар. Потрясенный трагедией, Рублёв как бы переоценивает ценности, как это написано в сценарии, будто бы продолжая свой разговор с тенью покойного уже Феофана Грека. Но если раньше он спорил с Феофаном, то теперь готов полностью с ним согласиться: «…полжизни в слепоте провел! Полжизни, как этот… я же для них, для людей, делал днями и ночами. По три дня на свет смотреть не мог: глаза болели. Тешил себя, что радость это для них, что в помощь вере? А они, православные-то, взяли иконостас мой и так вот просто и пожгли. Спалили! Не люди ведь это, а?»
Теперь Рублёв согласен с Феофаном, но это не значит, что он станет работать по его канонам. Он лучше совсем не будет работать: «Не нужно это никому. Если не смог своим искусством убедить, что люди они, – значит вовсе нет таланту! А потому больше к кистям, краскам не притронусь». В сценарии сцена эта решается спором с самим собой, тем неразрешаемым внутренним конфликтом, который заставляет Андрея отречься от жизни, наказав себя епитимьей молчания.
Рублёв уходит от людского, сторонясь дел человеческих. Он оскорблен их низкими помыслами и грязными деяниями. И вся его былая любовь к человечеству преобразуется теперь в любовь к невинной блаженной. Ко всему остальному он безразличен, он теперь сторонний наблюдатель, он не хочет, да и не будет, ни во что вмешиваться.
И здесь в сценарии возникает история Бориски, совсем юнца, решившегося с голодухи и отчаяния отливать колокол Великому князю. Волею случая Андрей становится свидетелем и незаметным для Бориски наблюдателем всего происходящего. И эта история мальчика, силою природного интуитивного мастерства сумевшего отлить колокол с чудесным звоном, заставляет Рублева снова пересмотреть свою жизнь. Он прижимает к себе плачущего от страшного волнения, перенапряжения и все-таки счастья мальчика и шепчет ему: «Не надо, не надо… Вот и все… ну и хорошо. Вот и пойдем мы с тобой вместе… Ну чего ты?.. Я – писать, ты колокола лить… А?.. Пойдем? Пойдем с тобой в Троицу, пойдем работать… какой праздник-то для людей… какую радость сотворил и еще плачет…»
Впервые за многие годы заговорил Андрей. И заговорил все-таки о радости для людей, о радости, которую сотворил для людей художник! Он понял, что был прав, что он должен работать и работать, чтобы доставлять людям эту радость, облегчать их почти беспросветно тяжелую жизнь.
Но он пришел к этому выводу навсегда и окончательно, лишь пройдя все круги ада. Он видел огонь, смерть, жестокость, подлость, лицемерие. И лишь за всем этим он смог увидеть жизнь человеческую, хотя и грустную, и часто страшную, но все-таки, несмотря ни на что, быть может, прекрасную. Во всяком случае, люди достойны того, чтобы не терять веры в то, что жизнь однажды будет, станет прекрасной и гармоничной. То есть через познание зла в полной мере он приходит к истинному и абсолютному пониманию добра.
Вот то главное, ради чего, по-моему, написан сценарий. А теперь перейдем к разбору его поэтики.
Сценарий разделен на отдельные новеллы, что, по-видимому, не случайно. Он сознательно написан вне канонической драматургической формы.
Отдельное новеллы – это эпизоды из жизни Рублева, или лучше назвать их моментами, чаще всего, кажется, вроде бы и не столь важные или вовсе не обязательные. Но это те мелочи, о которых человек, возможно, и не вспомнит с годами, но которые, незаметно откладываясь в сознании, формируют его характер и взгляды. Повторяю – это не ярко кульминационные, драматургически заостренные судьбоносные моменты жизни, а почти незамечаемые пометки времени, которые в результате определяют жизнь человеческую.
Более того, в сценарии эти часто как будто не связанные между собой моменты складываются в широкую, пожалуй, эпохальную картину жизни русского народа в конце XV – начале XVI века.
Авторы сознательно погружают своего героя в народную среду, растворяют его в ней. Он идет через жизнь, встречается с разными людьми, а мог бы и не встретиться, а мог бы и с другими людьми. Но принципиально важно для авторов, что герой изображается, как бы в свободном жизненном потоке, который и обтачивает, и шлифует его, как море камень. Жизнь сознательно дается как бы в неорганизованной форме, как будто бы документально. Подбор эпизодов может видеться случайным. Да и герой-то вовсе не герой в привычном понимании этого слова. Он редко становится центральным кадром, заполняя собой первый план. Он теряется в водовороте жизни, порою вовсе исчезая, порою неожиданно возникая вновь. Он как бы со стороны наблюдает жизнь, и авторы редко сосредоточивают наше внимание даже на его эмоциональном восприятии происходящего, тем более ничтожно мало он показан в действии. Не это занимает авторов. И тем не менее, как это ни парадоксально, все, что происходит в сценарии и будет происходить на экране, происходит только для него. И важно только одно, одно-единственное, последний вывод, в итоге к которому приходит герой. Только ради этого развертывается жестокая, порой, кажется, слишком жесткая картина жизни народной. Многие даже считают, что эта картина перегружена чрезмерным натурализмом, который создает трудности для ее восприятия. Я не разделяю этой точки зрения. Если мы принимаем данную драматургического форму в целом, а она уже была принята при утверждении сценария, то большие или меньшие откровения в демонстрации «ужасного» едва ли меняют дело. Такую меру трудно точно установить, а дозировать можно, ориентируясь лишь на собственный вкус! Тогда будет лучше и справедливее довериться и поверить режиссеру, по мере не своего, но его вкуса в соответствии с его же художественной задачей! Здесь речь идет о «чрезмерных» жестокостях в сцене пытки Патрикея, сцене ослепления и ряде других кусков, которые на самом деле как раз и призваны для того, чтобы мы, непосредственно вместе с Рублевым пройдя тяжкие испытания, вынесли, в конце концов, чувство необходимого просветления. Вот цель авторов!
Но я все-таки решительно против излишнего натурализма, который появился в последнем варианте сценария и который порою превращает серьезный художественный принцип в кокетство, где омерзительное обыгрывается не более как физиологически омерзительное. Например, я имею в виду сцену с Дурочкой, когда она ест поганые грибы. Но это лишь отдельные и немногие детали, которых, может быть, стоило бы избежать, чтобы ложка дегтя не испортила бочку меда, чтобы не скомпрометировать в целом тот художественный прием, который видится в данном случае единственно верным и необходимым. Потому что то драматургическое построение, о котором я говорила выше, кажется мне новым, нетрадиционным, интересным и перспективным.
Впрочем, еще одно небольшое опасение хотелось бы выразить авторам фильма. Порою они отступают от ими же выработанной формы, используя более искусственные конструкции. Как я уже говорила, все, что происходит с героями, происходит как бы случайно, словно авторы не вмешиваются в события, избегая использования традиционной драматургической фабулы. Потому с большим недоверием воспринимается как бы «случайное» повторное появление скомороха. Он не нужен еще в одной сцене только для того, чтобы продемонстрировать свой отрубленный язык – слишком прямой символ! Образ жестокого времени звучит лаконичнее, если остановиться на том предполагаемом нами убийстве скомороха дружинниками, которому мы оказались свидетелями в начале фильма. То же самое можно сказать о сцене с беглым.
Конечно, все это отдельные мелочи, но большая строгость в отборе материала и средств выражения, как мне кажется, пошла бы на пользу картине с точки зрения чистоты ее стиля и жанра. Впрочем, картина пока еще находится в производстве, и трудно предположить, какой она окажется в своем завершающем варианте. На данный момент режиссерский сценарий менялся уже четыре раза. Тарковский не относится к режиссерам, которые могут сказать вслед за Рене Клером: «Фильм готов, остается только его снять». У Тарковского фильм никогда не готов. Он может делать и переделывать его непрерывно. Его творческая фантазия работает безостановочно. Так что, возможно, многое, о чем я веду речь здесь, будет читаться иначе уже в следующем варианте режиссерского сценария и совсем иначе в готовом фильме. Но пока я позволю себе обратить внимание еще на некоторые изменения, внесенные в последний вариант. Не буду при этом задерживаться на тех неизбежных сокращениях в диалогах, которым попросту не хватает места, но которые не меняют существа вопросов.
Мне представляется очень верным, что из сценария выбросили детские воспоминания Рублева, избежав тем самым таящейся опасности слишком прямых ассоциаций со снами, так блестяще воссозданными в «Ивановом детстве». Зачем повторяться?
Зато мне кажется очень интересной новая сцена казни перед собором в Москве, которой раньше не было. Таким образом, картину избавили от маловыразительной сцены с мужиками, несущими Феофану доску. Но дали возможность по-новому и неожиданно развернуть к нам личность Феофана Грека, приоткрывая его потаенные ощущения и глубоко запрятанные переживания. (Мне кажется очень важным его окрик толпе с балкона: «Долго ли, православные, злодея будете мучить? Он своими страданиями давно уже все грехи искупил».)
Мне кажется также правильным, что убийство Рублевым татарина вынесено за кадр, и мы узнаем о нем только в пересказе. Такое решение точнее расставляет акценты и ближе поэтике сценария, о которой говорилось выше.
Неизмеримо сильнее звучит сцена «Ослепление» в новелле «Колокол» как воспоминание Андрея. Прекрасная сама по себе, она звучит еще напряженнее в столкновении с темой Бориски. Повторяю – обе новеллы, прекрасные сами по себе, взаимообогащаются, получая дополнительные важные оттенки.
Все прочие сокращения, увы, не на пользу будущему фильму. Однако сценарий не укладывается в доступный картине метраж, а потому приходится мириться с необходимостью изъятия некоторых кусков, которые могли бы еще более обогатить замысел.
Например, роды Дурочки, изнасилованной татарином, заменились более «мягкой» сценой ее соблазнения. Менее выразительно, конечно, но мысль, худо-бедно, сохраняется. Или две Голгофы, представленные воображениями двух иконописцев, сократились теперь до одной Голгофы Андрея Рублева. Понятно, как сильно проигрывает от этого будущая картина, теряя более сложное сочетание двух образов.
Впрочем, есть еще сокращения, идущие, с моей точки зрения, на пользу картине. Например, сцена, в которой Кирилл представляет, будто дерево убило Андрея. Это слишком прямое решение. Также можно указать еще целый ряд более мелких, но полезных для дела сокращений.
Хотя так жалко душевно, когда из сценария исчезает такая удивительная, грустная, прозрачная в своей интонации сцена, как «Охота на лебедей». Кажется, что ту сцену и впрямь можно выбросить безболезненно для основной мысли картины, но для зрителей теряется чарующая возможность, зная почерк Тарковского, взглянуть на этот мир поэтическим взглядом Рублева, улавливая через это восприятие тонкий символ. Это, быть может, одна из самых значительных потерь.
А вот и сама характеристика, которой я удостоилась, впервые побывав на съемках у Тарковского:
Мастеру II курса киноведческого факультета ВГИКа Н. Лебедеву.
ХАРАКТЕРИСТИКА
студентки-практикантки II курса киноведческого факультета
ВГИКа О.Е. Сурковой