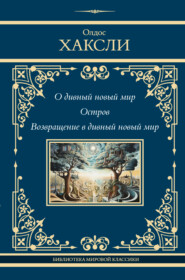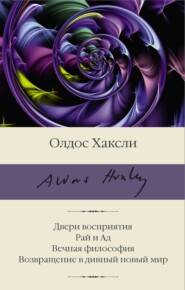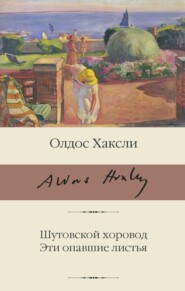По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
И после многих весен
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он нажал на самую верхнюю кнопку в длиннейшем ряду.
Глава 4
В апельсиновой роще, куда послали человека из Канзаса, уже работало с десяток семей переселенцев, и теперь они с женой, тремя детьми и бурым псом изо всех сил спешили к участку, который указал им смотритель. Шли молча, потому что говорить было не о чем, да и сил не оставалось, чтобы тратить на слова.
Всего полдня, думал канзасец, всего четыре часа, и работа кончится. Хорошо еще, если хоть семьдесят пять центов наработают. Семьдесят пять центов. Всего семьдесят пять, а покрышка на переднем колесе совсем износилась. Раз уж решили добираться до Фресно, а потом до Салинаса, менять ее придется обязательно. А даже подержанная покрышка, самая паршивенькая, денег стоит. А деньги – это ведь хлеб. Едят же они! – подумал он с нахлынувшим раздражением. Будь он один, без Минни, без детей, которых пришлось за собой тащить, нанял бы где-нибудь для себя домишко. Лучше бы у шоссе, тогда можно подзаработать, продавая яйца, фрукты, всякую мелочь проезжающим в собственных автомобилях, – он брал бы намного меньше, чем в магазине, а прибыль все равно бы вышла приличная. И глядишь, скопил бы на корову, на парочку поросят, а там и девчонку бы себе приглядел – попухлявее, ему пухлявые нравятся, пухлявые и молоденькие, чтобы…
Жена опять зашлась кашлем; мечты развеялись. Ах, ну и едят же они! Столько прожрут, сами того не стоят. Трое ребятишек, а силенок ни у одного. Да еще Минни то и дело хворает, вот и вкалывай за нее, словно своего мало!
Собака остановилась, обнюхивая столб. С нежданным проворством и умением канзасец резко рванулся вперед и пнул пса, угодив прямо между ребер.
– Тварь проклятая! – завопил он. – Пошел ты к черту!
Пес отполз, скуля. Канзасец оглянулся в надежде увидеть осуждение или сострадание на детских лицах. Но дети уже научились не давать ему повода вслед за собакой обрушивать ярость на них самих. Личики, полуприкрытые спутанными волосами, оставались безразличными, не выражая ровным счетом ничего. Разочарованный отец отвернулся, бормоча, что кишки им выпустит, если что. Мать даже не повернула головы. Слишком больной себя чувствовала, слишком усталой и просто шла, ничего не замечая. Воцарилось молчание.
Потом вдруг громко вскрикнула самая младшая:
– Смотрите!
Она показывала вперед. Перед ними высился замок. С закругления самой высокой башни поднимался витой металлический шест, на котором, устремляясь к небу на двадцать, на тридцать футов над парапетом, громоздились площадки. Крохотная фигурка чернела на верхней из них, резко выделяясь в слепящих лучах солнца. Не отрывая глаз, они смотрели, как, всплеснув руками, человек ринулся вниз головой и исчез за заграждением. Вопли изумленных детей предоставили канзасцу предлог, которого он не дождался несколько минут назад. Он накинулся на них неистово.
– Заткнитесь! – кричал он, раздавая тумаки направо, налево – удары пришлись по головам, досталось всем. Волевым усилием женщина заставила себя выкарабкаться из бездны усталости; обернувшись, она метнулась со своими протестами и норовила схватить мужа за руку. Он толкнул ее так яростно, что она еле устояла.
– Ты еще хуже этих паршивцев, – орал он. – Валяешься весь день да жрешь себе. На черта ты мне такая нужна! Я сам вымотался, не знаешь, что ли, и чувствую себя погано. Погано себя чувствую, поняла? – повторил канзасец. – Не лезь, хуже будет.
Он отвернулся и, ощутив прилив сил после этой вспышки, быстро зашагал под гнущимися от плодов апельсиновыми деревьями, зная, что жене догнать его не под силу.
Вид от этого бассейна на крыше главной башни открывался чудесный. Плавая в прозрачной воде, достаточно было всего лишь повернуть голову, чтобы сквозь каменные зубцы предстали пейзажи равнины и гор, зеленые, темные, рыжеватые, сиреневые тона, легкая голубизна. Плывешь, наслаждаешься видом, вспоминаешь, если, конечно, ты Джереми Пордейдж, ту башню из «Эпипсихидиона»[22 - «Эпипсихидион» – поэма Шелли.], где
В окна воздух льется золотой
И дух Востока, ветром донесенный.
Но если ты мисс Вирджиния Монсипл, такое не вспомнится. Вирджиния не плавала, не любовалась видами, не размышляла об «Эпипсихидионе»; глотнув еще виски и забравшись на самую верхнюю площадку трамплина, она подняла руки, прыгнула, мягко вошла в воду, тут же вынырнула за спиной ничего не подозревавшего Пордейджа, схватила его за пояс купальника и утянула вниз.
– Вам это надо было, – пояснила она, когда, отдуваясь, он вернулся из глуби, – а то разлеглись да полощетесь, как старый этот дурак, Будда то есть. – И улыбнулась Пордейджу, выражая самое чистосердечное презрение.
Боже правый, что за монстрами наводнил замок дядя Джо. То англичанин с моноклем, разглядывающий доспехи, то этот заика, который подправлял картины, да еще человечек, возившийся с дурацкими этими горшочками да цветочками, тот вообще говорить не умеет, только по-немецки, а теперь вот еще один англичанин, чучело какое-то, с виду прямо кролик и голос такой особенный – ну, как песни без слов, когда на саксофоне играют.
Джереми Пордейдж протер глаза, но по-прежнему все перед ним расплывалось – старческая дальнозоркость, он же без очков – только рядом, чуть не нос к носу, мелькает молодое смеющееся лицо, а тело сжалось, стало под водой крохотным и трепещет, так что не уловить очертаний. Редко ему доводилось находиться совсем близко к столь юному существу. Подавив досаду, он улыбнулся.
Мисс Монсипл высвободила руку, потрепав Джереми по лысине на макушке.
– Вот это да, – заметила она. – Сверкает, прямо в глазах резь. Какой там бильярдный шар! Бивень слоновий, вот что. Я вас так и называть буду. Пока, Бивень! – Она отпрянула, подплыла к лесенке и, отправившись к столику, заставленному бутылками, докончила свой виски с содовой, а потом уселась на краешек кушетки, где принимал солнечную ванну, прикрыв глаза темными очками, облаченный в купальник мистер Стойт.
– Привет, дядя Джо, – сказала она, игриво подчеркивая нежность, – вы как себя чувствуете, неплохо, а?
– Отлично, Малышка, – ответил он. И в самом деле ему было хорошо; солнце прогнало прочь мрачные думы, он вновь погрузился в настоящее – в прекрасное настоящее, где он навещает больных детишек и приносит им счастье, где есть Титтельбаумы, готовые за ерундовые деньги выложить информацию, стоящую не меньше миллиона, где небо голубое, а солнышко ласково щекочет живот, где, что уж греха таить, есть малышка Вирджиния, которая кого угодно пробудит от сладкой дремы, а ему она улыбается, так улыбается, словно впрямь любит своего старенького дядю Джо, и беспокоится о нем, и, главное, не потому, что он стар или вправду доводится ей дядюшкой, о нет, ничего подобного, соль-то в другом, то есть, что стар ты лишь в меру того, насколько старым себя чувствуешь, а значит, по-стариковски себя ведешь, а он, когда дело его Малышки касается, он что, разве не молод? разве с нею как старичок обращается? Дудки, сэр, ничуть не бывало. И мистер Стойт улыбнулся: победитель, он был удовлетворен собой.
– А ты как, Малышка, хорошо? – промолвил он вслух, кладя квадратную ладонь с растопыренными толстыми пальцами на ее нагую коленку.
Полуприкрыв веки, мисс Монсипл одарила его тайной улыбкой, в которой было что-то непристойное – понимание, соучастие; послышался короткий смешок, она раскинула руки.
– Вы у солнышка поинтересуйтесь, хорошо ему? – сказала она и, смежив глаза, опустила одну руку за другой, сцепляя их на затылке, отводя назад плечи. В этой позе грудь поднималась, подчеркивая линии паха, и одновременно круглилось сзади, – должно быть, евнухи обучали подобным движениям новоприбывших в серале, прежде чем показывать султану; Джереми вспомнил, что в точности такое же видел на четвертом этаже в Пантеоне «Беверли», где ему попалась особенно неприличная статуя.
Мистер Стойт рассматривал девочку через темные очки с видом хозяина – властитель и благодетель сразу. Вирджиния и впрямь его малышка, не только в переносном смысле слова или оттого, что он ее так называет, она и правда ему как ребенок. В его чувстве к ней соединялись чистейшая отцовская любовь и самый неукротимый зов плоти.
Он снова взглянул на нее. Обласканная солнцем, оттеняемая блестящим белым шелком трусиков и лифчика кожа казалась ему особенно загорелой. Плавными, протяжными, без усилия идущими кривыми уверенно соединялось в целое все это юное тело – никаких пережимов, ничего выпирающего, четкая трехмерность. Взгляд мистера Стойта скользнул выше: каштановые пряди, под ними закругленный лоб, глаза широко расставлены, нос маленький, прямой, дерзкий и, наконец, ее рот. Ах этот рот, самое в ней необычное. Коротенькая верхняя губа как раз и придавала лицу Вирджинии особое выражение ангельской непорочности, не менявшееся, в каком бы настроении она ни находилась, и обращавшее на себя внимание, чем бы Малышка ни была занята: рассказывала похабный анекдот или беседовала с викарием, чинно склонялась над чашкой чая у себя в Пасадене или крутила с мальчишками на всю катушку, предаваясь тому, что называлось у нее «немножко пошалить», или отстаивала мессу. По строгому счету была мисс Монсипл женщиной двадцати двух лет, но эта укороченная верхняя губа в любопытных обстоятельствах позволяла ей выглядеть совсем подростком, не достигшим совершеннолетия. Мистера Стойта, перевалившего за шестьдесят, словно сладкий яд притягивало это утонченно извращенное несоответствие между детскостью и зрелостью, невинностью облика и искушенностью познания. Не только оттого, что он так чувствовал, Вирджиния оказывалась малышкой и метафорически, и буквально, – она на самом деле ею была.
Восхитительное дитя! Ладонь, до этой минуты неподвижно покоившаяся на коленке, медленно сжалась. Какую гладкость, какую роскошную, неподдельную упругость ощущали сильные пальцы, схожие – особенно отставленный большой – с лопатой.
– Джини! – пробормотал он. – Малышка моя!
Малышка приоткрыла большие голубые глаза, уронив руки по бокам. Спина, освободясь от напряжения, выпрямилась, поднятая грудь вздымалась и опадала, точно живое, мягкое существо, взыскующее отдыха. Она улыбнулась.
– Вы мне зачем больно сделали, дядя Джо?
– Я бы тебя съел, – ответил ей дядя Джо тоном расчувствовавшегося каннибала.
– А я драться буду!
– Котеночек драчливый. – Мистер Стойт засмеялся в умилении.
Джереми Пордейджа, который все так же безмятежно оглядывал окрестную панораму, декламируя про себя «Эпипсихидион», как раз в эту минуту угораздило обернуться и бросить взгляд на кушетку; он так смутился, что стал тонуть и вынужден был изо всех сил заработать руками и ногами, чтобы не уйти на дно. Шлепая по воде, он добрался до лестницы, вылез и, даже не вытершись, поспешил к лифту.
– Нет, уму непостижимо, – бормотал он, всматриваясь в полотно Вермеера. – Уму непостижимо!
– Я кое-какие дела нынче утром устроил, – сказал мистер Стойт, когда Малышка села прямо.
– Какие это?
– Славное дельце, – ответил он. – Может, будут деньги, и неплохие. Настоящие деньги, – это было сказано с нажимом.
– И сколько?
– Может, с полмиллиона, – осторожно сказал он, скрыв, на что рассчитывает. – Глядишь, и миллион, а то и побольше.
– Дядя Джо, – воскликнула она, – вы прямо чудесный!
В голосе ее звучала неподдельная искренность. Она и правда считала, что он чудесный. В мире, где она обреталась, было аксиомой, что человек, способный заработать миллион, – не меньше как чудо. Родители, друзья, школьные педагоги, газеты, радио, рекламные плакаты – впрямую или подразумеваемо, все с единодушием внушали, что такая личность чудо, и только. А кроме того, любила Вирджиния своего дядю Джо. Он устроил так, что она чудесно проводит время, и она ему благодарна. И еще ей нравится относиться к людям с симпатией, если этому ничто не мешает, нравится доставлять им радость. Доставляешь им радость и самой хорошо, пусть они даже старички вроде дяди Джо, и, чтобы их порадовать, приходится кое-что такое делать, что не очень-то ей симпатично.
– Вы прямо чудесный! – повторила она.
Ее восторг пробудил в нем чувство настоящего довольства собой.
– Ну что ты, это ведь так просто, – ответил он с лицемерной скромностью, втайне снедаемый жаждой новых похвал.
И Вирджиния с ними не замедлила.