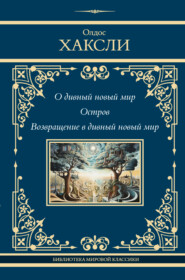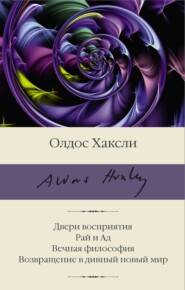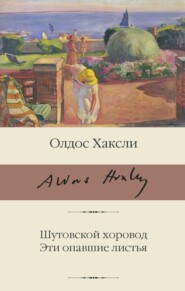По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
И после многих весен
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Откуда ж мне знать, черт вас дери! – Не надо, не надо. Бог есть любовь. Смерти нет.
Не смущаясь свидетельствами недовольства, Клэнси продолжал беседовать с мистером Стойтом все в той же театральной манере.
– Он сказал, что принято решение относительно, – тут он совсем перешел на шепот, – относительно долины Сан Фелипе.
– И что же они там решили? – Терпение мистера Стойта вновь было на пределе.
Клэнси не торопился с ответом. Вынул изо рта окурок, отбросил в сторону, достал другую сигару из жилетного кармана и, скомкав целлофановую обертку, незажженной поднес к губам, чтобы заменить выкуренную.
– Решили, – сообщил он очень медленно, вкладывая глубокий драматизм в каждое слово, – решили поставить насосы и качать туда воду.
Досада на лице мистера Стойта наконец-то сменилась заинтересованностью.
– Они что же, всю долину затопить собираются?
– Всю долину, – торжественно отозвался Клэнси. С минуту мистер Стойт хранил молчание.
– Сколько у нас остается времени? – спросил он наконец.
– Титтельбаум полагает, что о решении будет объявлено не ранее, чем через шесть недель.
– Шесть недель? – Мистер Стойт задумался всего на миг, и тут же у него созрел план действий. – Ладно. Приступайте, мешкать нечего, – сказал он с решительностью человека, привыкшего распоряжаться. – Займетесь этим сами, даю вам еще несколько человек в помощь. Независимые покупатели, телят, мол, собрались выращивать, ранчо у них тут будет, приехали с Востока и покупают землю под ранчо. Скупите все, что сможете. Да, а почем сейчас идет?
– В среднем двенадцать долларов за акр.
– Двенадцать, – повторил мистер Стойт, прикидывая, что с первым же насосом цена подскочит под сто. – Ну, и сколько акров сможете купить, как думаете?
– Может, тысяч тридцать.
На лице мистера Стойта мелькнула довольная улыбка.
– Неплохо, – подытожил он. – Очень неплохо. Ясное дело, моего имени не упоминать, – добавил он и тут же, без паузы, без перехода: – А Титтельбаум, он нам во сколько станет?
По губам Клэнси пробежала презрительная усмешка.
– Около четырех-пяти тысяч я ему дам.
– И только?
Клэнси кивнул.
– Титтельбаум сам на этом деле повязан, – сказал он. – Не очень-то поартачится, как до расчета дойдет. Да и деньги ему нужны, позарез нужны, я знаю.
– А зачем? – Лицо мистера Стойта выражало профессиональный интерес к человеческим слабостям. – Продулся, что ли? Или девки?
Клэнси помотал головой.
– Доктора, – объяснил он. – Сынишка у него парализованный, вот что.
– Парализованный! – В тоне мистера Стойта звучало искреннее сострадание. – Худо дело. – Минуту помедлив, он вдруг сказал со всем радушием: – Пусть сюда своего парня привозит. – Рука его указала на приют. – Для детишек с параличом лучше места нигде в Штатах не найти, и я с него ничего не возьму. Ни цента.
– Черт, ну и добрый вы, мистер Стойт, – сказал Клэнси с восхищением. – Уж такой добрый.
– Да бросьте вы, – ответил Стойт, подходя к машине. – Мне это только в радость. Как в Библии про детей сказано, помните? И вообще мне нравится с детишками этими возиться. Вроде как душой отходишь. – Он похлопал себя по груди. – Передайте Титтельбауму, пусть анкету заполняет. А заявление прямо мне отдаст. Я прослежу, чтобы все как надо было.
Он влез в автомобиль, захлопнул дверцу; потом, бросив взгляд на Джереми, открыл ее, не произнеся ни слова. Джереми втиснулся внутрь, бормоча извинения. Мистер Стойт опять запер дверцу, опустил стекло и выглянул наружу.
– Пока, – сказал он. – И смотрите, чтобы с этими делами по Сан Фелипе никакой волокиты не было. Вы постарайтесь, Клэнси, а я вам уступлю десять процентов всей земли, какая останется, когда я свое возьму.
Подняв окошко, он велел шоферу ехать. Повернув на шоссе, помчались прямо к замку. Откинувшись на подушки, мистер Стойт вспоминал тех несчастных детишек и прикидывал, сколько заработает на Сан Фелипе. «Бог есть любовь», – произнес он снова с убежденностью, в эту минуту непоколебимой; шепот его ясно слышался. «Бог есть любовь». Джереми стало совсем не по себе.
Цепной мост опустился при приближении голубого кадиллака, взмыла вверх хромированная решетка, двери внутреннего ограждения раздвинулись, пропуская машину. По бетонному корту катались на роликах семеро детей китайца-повара. Ниже, в Священном гроте, что-то сооружали каменщики. При виде их мистер Стойт дал сигнал остановиться.
– Строят гробницу для монахинь, – бросил он Джереми, выходя из автомобиля.
– Для монахинь? – отозвался Джереми, пораженный.
Мистер Стойт кивнул, объясняя, что его агенты в Испании купили кое-какие статуи и литье в часовне, разрушенной монархистами, когда началась война.
– Монахинь тоже прислали, – продолжал он. – Ну, набальзамированных. Или там на солнце высушенных, не знаю. В общем, тут они теперь, монахини эти. Хорошо, у меня для них нашлось подходящее место. – Он показал на памятник, который рабочие устанавливали у южной стены грота. На мраморной полке над большим римским саркофагом располагались изготовленные неизвестным резчиком времен короля Якова мужская и женская фигуры – обе в плоеных воротниках, обе коленопреклоненные, – а за ними тремя правильными рядами фигурки девяти дочерей: возраст их был от младенчества до отрочества.
«Hic jacet Carolus Franciscus Beals, Armiger…»[20 - Здесь покоится Чарлз Френсис Билс, смиренный… (лат.)] – начал читать Джереми.
– В Англии куплено, два года назад, – прервал его мистер Стойт. И, повернувшись к рабочим: – Ну как, ребята, скоро кончите?
– Завтра днем готово будет. А может, и с утра.
– Отлично, – сказал мистер Стойт. – Надо этих монахинь со склада забрать, – добавил он, пока шли к машине.
Поехали дальше. Удерживая равновесие почти невидимым покачиванием крыльев, пил из фонтанчика на левой груди нимфы, сработанной Джамболоньей, пересмешник. Вольер для павианов полнился резкими звуками битв и любовных утех. Мистер Стойт прикрыл глаза. «Бог есть любовь, – шептал он, стараясь продлить восхитительную эйфорию, в которую погрузило его общение с несчастными детьми и славная новость, сообщенная Клэнси. – Бог есть любовь. Смерти нет». Он помедлил в надежде почувствовать, как после тихо произнесенных слов у него теплеет внутри, словно после глотка виски.
Но, как будто затаившийся в нем враг решил сыграть злую шутку, он вдруг осознал, что думает о ссохшихся телах монахинь и о том, как сам станет бездыханным телом, о Страшном суде и адском пламени. Пруденс Макглэддери Стойт хранила верность Христианской науке; однако Джозеф Бадж Стойт был гласитом, а Летиция Морган, бабка по материнской линии, всю жизнь прожила да и померла плимутской сестрой[21 - Шотландские и ирландские секты XVII–XIX вв.].
У него в комнате под самой крышей стандартного домика в Нэшвилле, штат Теннесси, висел над койкой плакатик, где оранжевыми буквами по черному фону было написано СТРАШНЕЕ НЕТ, КАК В ДЛАНИ ГОСПОДА ЖИВОГО ОЧУТИТЬСЯ. С отчаянием он повторял опять и опять: «Бог есть любовь. Смерти нет». Только вот для грешников, для таких, как он, ненасытный червь сомнения вечен.
– Если все время будете бояться смерти, – сказал ему доктор Обиспо, – обязательно умрете. Страх – тоже яд, причем не из тех, которые медленно действуют.
Снова справившись с собой усилием воли, мистер Стойт принялся насвистывать. Песенка была знакомая: «Славно с милой под луною полежать, нам солома – королевская кровать», – но лицо, которое видел перед собой и, словно человек, случайно узнавший страшную, постыдную тайну, старался поскорее позабыть Джереми Пордейдж, было лицом арестанта в камере приговоренных.
– Совсем скис, – пробормотал шофер, наблюдая, как ковыляет от машины его хозяин.
Сопровождаемый Джереми, мистер Стойт молча прошествовал через готический портал, пересек римский вестибюль с колоннами, напоминавший часовню Девы в Дареме, и, по-прежнему не снимая шляпы, надвинутой прямо на глаза, ступил в готический полумрак главного вестибюля.
Отзвуки их шагов таяли под сводами где-то на высоте ста футов. Вдоль стен, словно железные призраки, стояли рыцарские доспехи. Над ними в царственной тени гобелены пятнадцатого века распахивали окна, за которыми виднелся пышно-зеленый мир фантазии. В самом углу схожего с пещерой помещения вспыхивало, подсвеченное невидимыми прожекторами, эль-грековское «Распятие Св. Петра» и казалось среди обступающей тьмы прекрасным откровением чего-то непостижимого, глубоко волнующего. А в углу напротив красовался не менее искусно подсвеченный портрет Элен Фурман: в полный рост, обнаженная, только меховая шапочка на голове. Джереми переводил взгляд с полотна на полотно – иссушенная плоть терзаемого муками святого сменялась роскошеством кожи, складок, мышц, доставлявшим Рубенсу бесконечное наслаждение, когда он такое видел, к такому прикасался, а цвета охры, кармина на фоне до прозрачности черных тонов и бело-зеленых пятен, которыми возвещает о себе подступившая агония, соседствовали с кремовым, нежно-розовым, со светящейся голубизной и зеленоватым колоритом, обычным для фламандских «ню». Два блистательных, несравненных, предельно выразительных символа – однако чего? чего? Вот это бы понять.
Дверь лифта скрывалась между двумя колоннами. Мистер Стойт распахнул ее, вспыхнул свет, и перед ними возникла голландская дама в голубых шелках, сидящая за клавесином, – олицетворение, подумалось Джереми, олицетворение того мира, где соединились в целое красота и логика, наивность и геометрия. Зачем этого единства добивались? Понять бы тоже и вот это. Когда соприкасаешься с искусством, сказал себе Джереми, это всегда и надлежит понять.
– Дверь закройте! – приказал мистер Стойт. И когда это было сделано, сообщил: – Поплаваем перед обедом.