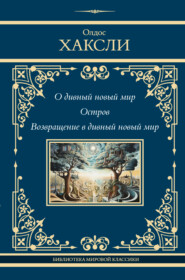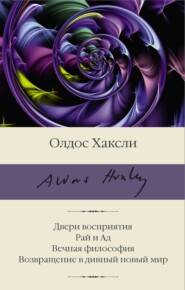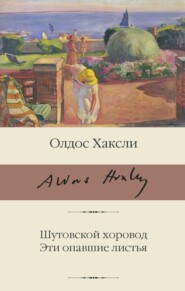По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
И после многих весен
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Кстати, расскажите про Испанию, – прощебетала Вирджиния. И пока Джереми, который прислушивался к их разговору, лихорадочно пытался сообразить, как это у нее оказались кстати «Чулочки» и Гражданская война, – связались ли в целое «Космополитен-Перельмутер», антисемитизм, франкизм, нацизм, или беглянка, классовая борьба, Москва, Негрин, или стриптиз, дух нынешнего времени, радикализм, Республика, – пока он прокручивал все эти варианты, Вирджиния тормошила молодого великана, чтобы он им рассказал про свои испанские приключения, а когда он замялся, потребовала с настойчивостью – ведь это так интересно, и Помеха никогда про это не слышала, да наконец, ей вот хочется, и нечего ломаться.
Пит послушно кивнул. Чередуя ходовые словечки с газетными фразами, – Джереми, втихомолку подслушивавший, насколько позволяло бубнящее красноречие доктора Малджа, подумал: вот он, убогий, нищенский, ковыляющий лексикон, к которому прибегают столько молодых американцев и англичан из страха показаться небанальными, а значит, третирующими свою компанию, или высокомерными, стало быть, недемократичными, или же вовсе снобами, что совсем уж не годится, – спотыкаясь, уснащая свой рассказ междометиями, Пит на мерзком этом жаргоне принялся описывать те героические месяцы 1937 года, которые провел добровольцем в Интербригаде. Повесть выходила захватывающая. Хотя речь Пита безнадежно хромала, Джереми не составило труда уловить, что юноша этот действительно верит в справедливость и свободу, что он по-настоящему храбр, предан своим товарищам и даже здесь, рядом с капризным ротиком, в атмосфере, где все благоприятствует научным занятиям, его снедает тоска по жизни среди людей, посвятивших себя своей идее, готовых встретить лицом к лицу любую опасность, не страшившихся ни лишений, ни всегда близкой угрозы гибели.
– Да чего там, – то и дело повторял он, – настоящие были парни, уж поверьте.
Все они были настоящие – Кнут, однажды спасший его там, в Арагоне, и Антон, Мэк, бедняга Дино, которого убили, и Андре – тому отрезали ногу; а у Яна остались дома жена и двое малышей; про Фрица и говорить нечего – он полгода сидел у нацистов в лагере, да и вообще чего там, лучше парней в мире не найти. А вот он хорош гусь, нечего сказать, – сначала подхватил ревматизм, и пришлось ребятам столько с ним возиться, а потом бац! миокардит, и значит, прощай, солдатская служба: на что он годен, если двигаться не может. Поэтому он сюда и приехал – это было сказано извиняющимся тоном. Да ладно, чего там, он все-таки кое-что в жизни повидал! Вспомнить хотя бы, как они с Кнутом сделали ночную вылазку, переползли через расщелину и, застав врасплох целый взвод мавров, половину перестреляли, а вернулись с пулеметом, с тремя пленными…
– Позвольте поинтересоваться, что вы думаете о Творческом Развитии Личности, мистер Пордейдж?
Смущенный тем, что его так явно поймали на невнимании к оратору, Джереми виновато забормотал:
– Творческое развитие? Ну конечно, конечно, – он пытался выиграть время. – Обязательно, просто необходимо. Я всей душой за творческое развитие, – закончил он с пафосом.
– Приятно это слышать, – сказал доктор Малдж. – Поскольку мы в Тарзании именно этого и стараемся добиться. Творческого развития – и чтобы оно становилось все более Творческим. Сказать вам, о чем я всего сильнее мечтаю? – И мистер Стойт, и Джереми хранили молчание. Тем не менее доктор Малдж пылал решимостью поведать им свои грезы. – О том, что Тарзания превратится в Центр той Новой Цивилизации, коя расцветает здесь у нас, на Западе. – Мясистая его длань торжественно взмыла вверх. – Афины Двадцатого Века вскоре появятся в пределах городских границ Лос-Анджелеса. И я хочу, чтобы Тарзанию считали новыми афинским Парфеноном и Академией, новой Стоей и Храмом Муз. Чтобы Религия, Творчество, Философия, Наука, чтобы все они обрели приют в Тарзании, отсюда источая благородный свой свет, которым…
Довершая рассказ о вылазке, Пит наконец сообразил, что слушает его только Помеха. Внимание Вирджинии отвлеклось, сначала незаметно, затем явно и вызывающе, на левый фланг, где доктор Обиспо что-то нашептывал почти в самое ухо той блондинке, что потемнее.
– Вы о чем это там? – окликнула их Вирджиния. Доктор повернулся к ней, снова принявшись шептать. Три головы – набриолиненная черноволосая, в мелких русых завитках и еще одна, с каштановым отливом, – почти касались друг друга. По выражению лиц Пит догадался, что доктор опять рассказывает какую-то из своих похабных историй. Болезненная пустота на месте сердца, исчезнувшая было, когда Вирджиния с пленительной улыбкой попросила его рассказать про Испанию, теперь вернулась, отозвавшись удвоенной тревогой. Боль была особенная, в ней сплетались нежность, отчаяние, чувство утраты, ощущение собственной никчемности и еще страх, что ангела его совращают, а вдобавок другой, более глубокий страх, который он отказывался отчетливо осознать, и страх этот был тот, что о совращении тревожиться уже незачем, потому что ангел на самом-то деле не херувим, которого создало воображение, плененное любовью. Увлекательный его рассказ вдруг сам собою иссяк. Он замолчал.
– А что же потом было? – тормошила его Помеха; на лице ее читались страстный интерес и такое преклонение перед героем, от которого у любого другого приятно защекотало бы в груди.
Он покачал головой.
– Ничего особенного.
– А с маврами, то есть с пленными, вы как распорядились?
– Ну их к черту! – нетерпеливо отмахнулся он. – Вам-то что?
Слова его заглушил неистовый хохот, как будто взрывом разбросавший заговорщицки склоненные одна к другой головы: черноволосую, в русых завитках и ту, с прелестным каштановым отливом. Взглянув на Вирджинию, он увидел, что она корчится от еле сдерживаемого смеха. Что это ее разбирает? – он мучительно пытался понять, насколько она развращена, и в памяти разом всплыли, как бы выкристаллизовавшись и сливаясь воедино, все смачные анекдоты, которые гуляли в его дни по школе, все шуточки, все скабрезные куплеты.
Может, и ее развеселил анекдотец в таком духе? Или что-нибудь вроде этой вот песенки? Или – боже, да неужто – вроде той истории? О нет, взывал он к небесам, только не этой, но чем больше старался он себя убедить, чем горячее молился, тем безнадежнее, сам не зная почему, проникался уверенностью, что эта именно история и была рассказана.
– …самое важное, – вещал доктор Малдж. – Творческое Созидание в сфере Искусств. Поэтому необходима Художественная Школа, которая была бы достойна Тарзании, достойна величайших традиций нашего…
Истерический женский хохот нарушил чинное спокойствие, своим неистовством точно бы негативно соответствуя строгости принятых в обществе табу. Взор мистера Стойта резко устремился туда, где веселились от души.
– Вы чего это? – подозрительно спросил он.
Он не позволит, чтобы Малышка краснела от грязных шуточек. Когда за столом были дамы, он делался почти так же нетерпим к грязным шуточкам, как, бывало, его бабушка, плимутская сестрица.
– Чего ржете, спрашиваю?
Ответил доктор Обиспо. Со своей всегдашней лощеной вежливостью, воспринимавшейся как издевательство, объяснил, что рассказывает девочкам забавный случай, о котором недавно говорили по радио. Ужасно смешное происшествие. Может, начать сначала, чтобы и мистер Стойт послушал?
Бросив на него сердитый взгляд, мистер Стойт отвернулся.
Скучающая мина на лице хозяина убедила доктора Малджа, что разговор о Художественной школе лучше отложить до другого случая. Жаль, очень жаль, дело-то вроде было совсем на мази. Ладно, не все сразу. В качестве главы колледжа доктор Малдж хронически нуждался в филантропах; о богачах ему было известно все. Известно, в частности, что они похожи на горилл, а тех непросто укрощать, потому что они всегда настороже, вечно чем-то недовольны и отличаются скверным характером. С ними надо действовать без нажима, обращаться нежно, ласково и хитрить на каждом шагу. Причем все равно они способны вдруг ни с того ни с сего обозлиться и показать зубы. Полжизни что-нибудь выклянчивая у банкиров, стальных магнатов и отошедших от дел консервных королей, доктор Малдж выучился сносить маленькие неудачи вроде сегодняшней с истинно философским терпением. Сияя всей своей расплывшейся в улыбке физиономией римлянина имперской поры, он обратился к Джереми:
– А как вам наш калифорнийский климат, мистер Пордейдж?
Вирджиния мельком взглянула на Пита, сразу угадав, чем он расстроен. Бедненький! Но с другой стороны, ей что, вот так и слушать все эти байки про дурацкую войну в Испании, а если не про Испанию, так про лабораторию, а в лаборатории они занимаются вивисекцией, ужас какой-то, ну да, на охоте тоже убивают зверьков, но у них, бедненьких, есть шанс уцелеть, особенно когда стрелок неважный, а она и стрелять-то не умеет, и вообще на охоте так здорово, горы кругом, воздух такой чудесный, а Пит просто кромсает бедненьких мышек у себя в этом противном погребе… В общем, он сильно ошибается, если рассчитывает, что она так вот сядет рядом и уши развесит. Но в общем-то он славный, Пит, а уж влюблен, с ума сойти! Чудесно, когда так в тебя влюбляются, просто чудесно. Хотя в общем-то надоел он ей уже. Вроде как ты ему чем-то обязана, а он тебе указывать может и вообще лезть с советами. Пит, правда, особенно не лезет, но смотрит, смотрит как – вроде бы ты лишний коктейль выпила, а твоей собаке вздумалось тебя ругать за это. Глазами все говорит, прямо как Хеди Ламар, только у нее, у Хеди, глаза совсем другое говорят, совсем, совсем другое. И сейчас опять вон на меня уставился, а что я такого сделала? Надоела мне эта дурацкая война, вот я и прислушалась, что это там Зиг нашептывает Мери Лу. Ладно, хватит, в общем, никому не позволю объяснять, как мне жить, моя жизнь – это моя жизнь. И мое дело. А он пялится с упреками, ну совсем как дядя Джо, или мамаша, или этот отец О’Рейли. Те, правда, не просто пялятся, те еще говорят, говорят – не остановишь. Хотя вообще-то он все это с лучшими чувствами делает, бедненький, он совсем мальчишка, этот Пит, опыта никакого, а главное, влюблен, как сопляк, как тот школьник в последней картине Дины Дурбин. Бедненький Пит! – опять подумалось ей. Не везет ему, а что поделаешь, никогда ей не нравились такие вот здоровые, красивые парни вроде Кэри Гранта. Ну, не нравятся, и все тут. Он милый, чудесно, что он так ее любит. Но делать нечего.
Встретившись с ним взглядом, она одарила его ослепительной улыбкой и позвала, если найдется свободных полчаса, после ланча поучить ее с девочками, как кидают подкову.
Глава 7
Наконец поднялись из-за стола и начали расходиться. Доктору Малджу предстояла деловая встреча в Пасадене с вдовой владельца треста резиновых изделий – может, та пожертвует тридцать тысяч на спальный корпус для девочек. Мистер Стойт отправлялся в Лос-Анджелес на еженедельное заседание правления, происходившее в пятницу к вечеру, и последующие деловые переговоры. Доктор Обиспо должен был оперировать на кроликах и направился в лабораторию за инструментами. У Пита накопилась груда научных журналов, которые надо просмотреть, но все же он не отказал себе в нескольких минутах счастья, даруемого обществом Вирджинии. А Джереми, разумеется, не терпелось вернуться к бумагам Хоберков. Он шел к себе в подвал, испытывая чувство почти физического облегчения, – так возвращаются туда, где чувствуют себя дома. Он проводил день прекрасно, и с какой пользой! Прошло каких-то два-три часа, когда из кипы бухгалтерских книг и деловых бумаг он выудил еще одну связку писем Молиноса. А также третий и четвертый тома «Фелиции». И кроме того, иллюстрированное издание «Le Portier des Carmes»[29 - «Дарующий блаженства» Нерсиа.], a затем под переплетом, напоминающим молитвенник, обнаружилось сочинение редчайшее – «Сто двадцать дней Содома», труд Божественного Маркиза. Истинное сокровище. Вот уж удача, так удача. Впрочем, подумал Джереми, удачи этой вполне можно было ожидать, зная, что за семейство были Хоберки. Судя по году выпуска, книги скорее всего принадлежали пятому графу – тому, который владел титулом полвека с лишним, перевалил за девяносто, а скончался уже при Вильяме IV, и не задумавшись о покаянии. Памятуя, что собою представлял сей старый джентльмен, странно удивляться, обнаружив, какое у него было собрание порнографии, – уж скорее следовало бы предположить, что оно окажется еще богаче.
С каждой новой находкой Джереми окрылялся все больше. Как обычно, – безошибочная примета, что у него хорошее настроение, – он принялся вспоминать песенки, популярные во времена его детства. Письма Молиноса читались под аккомпанемент «Веселеньких девчонок», «Фелицию» и «Le Portier des Carmes» он листал, мурлыкая под нос романтичную мелодию «Пчелка на сирени». А когда очередь дошла до «Ста двадцати дней», никогда им прежде не читанных и даже не виданных, сюрприз привел его в такое восхищение, что, раскрыв старый томик по долгу библиографа и обнаружив вместо предполагаемых англиканских песнопений прозу маркиза де Сада с ее ледяным изяществом, Джереми принялся снова и снова повторять вслух стишок, который мать заставила его выучить всего трех лет от роду, – он до сих пор воспринимал эти строчки как символ восторга перед чудом, потому что невозможно достовернее передать радость от негаданного подарка судьбы, от нежданной улыбки жизни:
– Дружок, вот сладкий пирожок!
– Ах, принеси еще, дружок!
А он, какое счастье, еще и первый не надкусил, вот она, книжечка, толком даже и не открытая, все впереди – и наслаждение, и поучение. Вспомнив, как там, в бассейне, он ощутил укол ревности, Джереми снисходительно усмехнулся. Пусть мистер Стойт заведет себе хоть гарем, первоклассный образчик непристойной прозы восемнадцатого столетья – это вам не какая-нибудь мисс Монсипл. Он закрыл книжечку, не выпуская ее из рук. Сафьяновый переплет – скромно, но до чего элегантно; слово «Молитвенник» вытиснено на корешке золотыми буквами, почти не потускневшими от времени. Он поставил томик на край стола, куда откладывал прочие курьезные вещицы. Сделает все, что на сегодня намечено, – заберет эту коллекцию к себе в комнату.
«Дружок, вот сладкий пирожок!» – напевал он, вскрывая следующий ящик, а потом затянул: «Этим ясным днем весенним в лепестках густой сирени собирает пчелка мед – вся природа с ней поет». Эта поющая природа – Вордсворт, да и только, – особенно его умиляла. Очередная связка бумаг оказалась перепиской пятого графа с несколькими влиятельными вигами по поводу ограждения в пользу его сиятельства трех тысяч акров общественных пастбищ в Ноттингемпшире. Джереми сложил листки в папку, занес на карточку краткое описание документов, убрал папку в шкаф, карточку отправил в картотеку и, опять воспевая сладкий пирожок, потянулся за следующим пакетом. Он разрезал шпагат. «Пчелка, пчелка, не ленись ты, в рот возьми сирени листик». Интересно, что бы по этому поводу сказал доктор Фрейд? Какие-то неподписанные памфлеты против деистов – жуткая тощища, Джереми тут же отложил их подальше. Но вот кое-что занятное – экземпляр «Серьезного призвания» Лоу с собственноручными пометками Эдварда Гиббона[30 - Гиббон, Эдвард (1737–1794) – выдающийся английский историк.]
Пит послушно кивнул. Чередуя ходовые словечки с газетными фразами, – Джереми, втихомолку подслушивавший, насколько позволяло бубнящее красноречие доктора Малджа, подумал: вот он, убогий, нищенский, ковыляющий лексикон, к которому прибегают столько молодых американцев и англичан из страха показаться небанальными, а значит, третирующими свою компанию, или высокомерными, стало быть, недемократичными, или же вовсе снобами, что совсем уж не годится, – спотыкаясь, уснащая свой рассказ междометиями, Пит на мерзком этом жаргоне принялся описывать те героические месяцы 1937 года, которые провел добровольцем в Интербригаде. Повесть выходила захватывающая. Хотя речь Пита безнадежно хромала, Джереми не составило труда уловить, что юноша этот действительно верит в справедливость и свободу, что он по-настоящему храбр, предан своим товарищам и даже здесь, рядом с капризным ротиком, в атмосфере, где все благоприятствует научным занятиям, его снедает тоска по жизни среди людей, посвятивших себя своей идее, готовых встретить лицом к лицу любую опасность, не страшившихся ни лишений, ни всегда близкой угрозы гибели.
– Да чего там, – то и дело повторял он, – настоящие были парни, уж поверьте.
Все они были настоящие – Кнут, однажды спасший его там, в Арагоне, и Антон, Мэк, бедняга Дино, которого убили, и Андре – тому отрезали ногу; а у Яна остались дома жена и двое малышей; про Фрица и говорить нечего – он полгода сидел у нацистов в лагере, да и вообще чего там, лучше парней в мире не найти. А вот он хорош гусь, нечего сказать, – сначала подхватил ревматизм, и пришлось ребятам столько с ним возиться, а потом бац! миокардит, и значит, прощай, солдатская служба: на что он годен, если двигаться не может. Поэтому он сюда и приехал – это было сказано извиняющимся тоном. Да ладно, чего там, он все-таки кое-что в жизни повидал! Вспомнить хотя бы, как они с Кнутом сделали ночную вылазку, переползли через расщелину и, застав врасплох целый взвод мавров, половину перестреляли, а вернулись с пулеметом, с тремя пленными…
– Позвольте поинтересоваться, что вы думаете о Творческом Развитии Личности, мистер Пордейдж?
Смущенный тем, что его так явно поймали на невнимании к оратору, Джереми виновато забормотал:
– Творческое развитие? Ну конечно, конечно, – он пытался выиграть время. – Обязательно, просто необходимо. Я всей душой за творческое развитие, – закончил он с пафосом.
– Приятно это слышать, – сказал доктор Малдж. – Поскольку мы в Тарзании именно этого и стараемся добиться. Творческого развития – и чтобы оно становилось все более Творческим. Сказать вам, о чем я всего сильнее мечтаю? – И мистер Стойт, и Джереми хранили молчание. Тем не менее доктор Малдж пылал решимостью поведать им свои грезы. – О том, что Тарзания превратится в Центр той Новой Цивилизации, коя расцветает здесь у нас, на Западе. – Мясистая его длань торжественно взмыла вверх. – Афины Двадцатого Века вскоре появятся в пределах городских границ Лос-Анджелеса. И я хочу, чтобы Тарзанию считали новыми афинским Парфеноном и Академией, новой Стоей и Храмом Муз. Чтобы Религия, Творчество, Философия, Наука, чтобы все они обрели приют в Тарзании, отсюда источая благородный свой свет, которым…
Довершая рассказ о вылазке, Пит наконец сообразил, что слушает его только Помеха. Внимание Вирджинии отвлеклось, сначала незаметно, затем явно и вызывающе, на левый фланг, где доктор Обиспо что-то нашептывал почти в самое ухо той блондинке, что потемнее.
– Вы о чем это там? – окликнула их Вирджиния. Доктор повернулся к ней, снова принявшись шептать. Три головы – набриолиненная черноволосая, в мелких русых завитках и еще одна, с каштановым отливом, – почти касались друг друга. По выражению лиц Пит догадался, что доктор опять рассказывает какую-то из своих похабных историй. Болезненная пустота на месте сердца, исчезнувшая было, когда Вирджиния с пленительной улыбкой попросила его рассказать про Испанию, теперь вернулась, отозвавшись удвоенной тревогой. Боль была особенная, в ней сплетались нежность, отчаяние, чувство утраты, ощущение собственной никчемности и еще страх, что ангела его совращают, а вдобавок другой, более глубокий страх, который он отказывался отчетливо осознать, и страх этот был тот, что о совращении тревожиться уже незачем, потому что ангел на самом-то деле не херувим, которого создало воображение, плененное любовью. Увлекательный его рассказ вдруг сам собою иссяк. Он замолчал.
– А что же потом было? – тормошила его Помеха; на лице ее читались страстный интерес и такое преклонение перед героем, от которого у любого другого приятно защекотало бы в груди.
Он покачал головой.
– Ничего особенного.
– А с маврами, то есть с пленными, вы как распорядились?
– Ну их к черту! – нетерпеливо отмахнулся он. – Вам-то что?
Слова его заглушил неистовый хохот, как будто взрывом разбросавший заговорщицки склоненные одна к другой головы: черноволосую, в русых завитках и ту, с прелестным каштановым отливом. Взглянув на Вирджинию, он увидел, что она корчится от еле сдерживаемого смеха. Что это ее разбирает? – он мучительно пытался понять, насколько она развращена, и в памяти разом всплыли, как бы выкристаллизовавшись и сливаясь воедино, все смачные анекдоты, которые гуляли в его дни по школе, все шуточки, все скабрезные куплеты.
Может, и ее развеселил анекдотец в таком духе? Или что-нибудь вроде этой вот песенки? Или – боже, да неужто – вроде той истории? О нет, взывал он к небесам, только не этой, но чем больше старался он себя убедить, чем горячее молился, тем безнадежнее, сам не зная почему, проникался уверенностью, что эта именно история и была рассказана.
– …самое важное, – вещал доктор Малдж. – Творческое Созидание в сфере Искусств. Поэтому необходима Художественная Школа, которая была бы достойна Тарзании, достойна величайших традиций нашего…
Истерический женский хохот нарушил чинное спокойствие, своим неистовством точно бы негативно соответствуя строгости принятых в обществе табу. Взор мистера Стойта резко устремился туда, где веселились от души.
– Вы чего это? – подозрительно спросил он.
Он не позволит, чтобы Малышка краснела от грязных шуточек. Когда за столом были дамы, он делался почти так же нетерпим к грязным шуточкам, как, бывало, его бабушка, плимутская сестрица.
– Чего ржете, спрашиваю?
Ответил доктор Обиспо. Со своей всегдашней лощеной вежливостью, воспринимавшейся как издевательство, объяснил, что рассказывает девочкам забавный случай, о котором недавно говорили по радио. Ужасно смешное происшествие. Может, начать сначала, чтобы и мистер Стойт послушал?
Бросив на него сердитый взгляд, мистер Стойт отвернулся.
Скучающая мина на лице хозяина убедила доктора Малджа, что разговор о Художественной школе лучше отложить до другого случая. Жаль, очень жаль, дело-то вроде было совсем на мази. Ладно, не все сразу. В качестве главы колледжа доктор Малдж хронически нуждался в филантропах; о богачах ему было известно все. Известно, в частности, что они похожи на горилл, а тех непросто укрощать, потому что они всегда настороже, вечно чем-то недовольны и отличаются скверным характером. С ними надо действовать без нажима, обращаться нежно, ласково и хитрить на каждом шагу. Причем все равно они способны вдруг ни с того ни с сего обозлиться и показать зубы. Полжизни что-нибудь выклянчивая у банкиров, стальных магнатов и отошедших от дел консервных королей, доктор Малдж выучился сносить маленькие неудачи вроде сегодняшней с истинно философским терпением. Сияя всей своей расплывшейся в улыбке физиономией римлянина имперской поры, он обратился к Джереми:
– А как вам наш калифорнийский климат, мистер Пордейдж?
Вирджиния мельком взглянула на Пита, сразу угадав, чем он расстроен. Бедненький! Но с другой стороны, ей что, вот так и слушать все эти байки про дурацкую войну в Испании, а если не про Испанию, так про лабораторию, а в лаборатории они занимаются вивисекцией, ужас какой-то, ну да, на охоте тоже убивают зверьков, но у них, бедненьких, есть шанс уцелеть, особенно когда стрелок неважный, а она и стрелять-то не умеет, и вообще на охоте так здорово, горы кругом, воздух такой чудесный, а Пит просто кромсает бедненьких мышек у себя в этом противном погребе… В общем, он сильно ошибается, если рассчитывает, что она так вот сядет рядом и уши развесит. Но в общем-то он славный, Пит, а уж влюблен, с ума сойти! Чудесно, когда так в тебя влюбляются, просто чудесно. Хотя в общем-то надоел он ей уже. Вроде как ты ему чем-то обязана, а он тебе указывать может и вообще лезть с советами. Пит, правда, особенно не лезет, но смотрит, смотрит как – вроде бы ты лишний коктейль выпила, а твоей собаке вздумалось тебя ругать за это. Глазами все говорит, прямо как Хеди Ламар, только у нее, у Хеди, глаза совсем другое говорят, совсем, совсем другое. И сейчас опять вон на меня уставился, а что я такого сделала? Надоела мне эта дурацкая война, вот я и прислушалась, что это там Зиг нашептывает Мери Лу. Ладно, хватит, в общем, никому не позволю объяснять, как мне жить, моя жизнь – это моя жизнь. И мое дело. А он пялится с упреками, ну совсем как дядя Джо, или мамаша, или этот отец О’Рейли. Те, правда, не просто пялятся, те еще говорят, говорят – не остановишь. Хотя вообще-то он все это с лучшими чувствами делает, бедненький, он совсем мальчишка, этот Пит, опыта никакого, а главное, влюблен, как сопляк, как тот школьник в последней картине Дины Дурбин. Бедненький Пит! – опять подумалось ей. Не везет ему, а что поделаешь, никогда ей не нравились такие вот здоровые, красивые парни вроде Кэри Гранта. Ну, не нравятся, и все тут. Он милый, чудесно, что он так ее любит. Но делать нечего.
Встретившись с ним взглядом, она одарила его ослепительной улыбкой и позвала, если найдется свободных полчаса, после ланча поучить ее с девочками, как кидают подкову.
Глава 7
Наконец поднялись из-за стола и начали расходиться. Доктору Малджу предстояла деловая встреча в Пасадене с вдовой владельца треста резиновых изделий – может, та пожертвует тридцать тысяч на спальный корпус для девочек. Мистер Стойт отправлялся в Лос-Анджелес на еженедельное заседание правления, происходившее в пятницу к вечеру, и последующие деловые переговоры. Доктор Обиспо должен был оперировать на кроликах и направился в лабораторию за инструментами. У Пита накопилась груда научных журналов, которые надо просмотреть, но все же он не отказал себе в нескольких минутах счастья, даруемого обществом Вирджинии. А Джереми, разумеется, не терпелось вернуться к бумагам Хоберков. Он шел к себе в подвал, испытывая чувство почти физического облегчения, – так возвращаются туда, где чувствуют себя дома. Он проводил день прекрасно, и с какой пользой! Прошло каких-то два-три часа, когда из кипы бухгалтерских книг и деловых бумаг он выудил еще одну связку писем Молиноса. А также третий и четвертый тома «Фелиции». И кроме того, иллюстрированное издание «Le Portier des Carmes»[29 - «Дарующий блаженства» Нерсиа.], a затем под переплетом, напоминающим молитвенник, обнаружилось сочинение редчайшее – «Сто двадцать дней Содома», труд Божественного Маркиза. Истинное сокровище. Вот уж удача, так удача. Впрочем, подумал Джереми, удачи этой вполне можно было ожидать, зная, что за семейство были Хоберки. Судя по году выпуска, книги скорее всего принадлежали пятому графу – тому, который владел титулом полвека с лишним, перевалил за девяносто, а скончался уже при Вильяме IV, и не задумавшись о покаянии. Памятуя, что собою представлял сей старый джентльмен, странно удивляться, обнаружив, какое у него было собрание порнографии, – уж скорее следовало бы предположить, что оно окажется еще богаче.
С каждой новой находкой Джереми окрылялся все больше. Как обычно, – безошибочная примета, что у него хорошее настроение, – он принялся вспоминать песенки, популярные во времена его детства. Письма Молиноса читались под аккомпанемент «Веселеньких девчонок», «Фелицию» и «Le Portier des Carmes» он листал, мурлыкая под нос романтичную мелодию «Пчелка на сирени». А когда очередь дошла до «Ста двадцати дней», никогда им прежде не читанных и даже не виданных, сюрприз привел его в такое восхищение, что, раскрыв старый томик по долгу библиографа и обнаружив вместо предполагаемых англиканских песнопений прозу маркиза де Сада с ее ледяным изяществом, Джереми принялся снова и снова повторять вслух стишок, который мать заставила его выучить всего трех лет от роду, – он до сих пор воспринимал эти строчки как символ восторга перед чудом, потому что невозможно достовернее передать радость от негаданного подарка судьбы, от нежданной улыбки жизни:
– Дружок, вот сладкий пирожок!
– Ах, принеси еще, дружок!
А он, какое счастье, еще и первый не надкусил, вот она, книжечка, толком даже и не открытая, все впереди – и наслаждение, и поучение. Вспомнив, как там, в бассейне, он ощутил укол ревности, Джереми снисходительно усмехнулся. Пусть мистер Стойт заведет себе хоть гарем, первоклассный образчик непристойной прозы восемнадцатого столетья – это вам не какая-нибудь мисс Монсипл. Он закрыл книжечку, не выпуская ее из рук. Сафьяновый переплет – скромно, но до чего элегантно; слово «Молитвенник» вытиснено на корешке золотыми буквами, почти не потускневшими от времени. Он поставил томик на край стола, куда откладывал прочие курьезные вещицы. Сделает все, что на сегодня намечено, – заберет эту коллекцию к себе в комнату.
«Дружок, вот сладкий пирожок!» – напевал он, вскрывая следующий ящик, а потом затянул: «Этим ясным днем весенним в лепестках густой сирени собирает пчелка мед – вся природа с ней поет». Эта поющая природа – Вордсворт, да и только, – особенно его умиляла. Очередная связка бумаг оказалась перепиской пятого графа с несколькими влиятельными вигами по поводу ограждения в пользу его сиятельства трех тысяч акров общественных пастбищ в Ноттингемпшире. Джереми сложил листки в папку, занес на карточку краткое описание документов, убрал папку в шкаф, карточку отправил в картотеку и, опять воспевая сладкий пирожок, потянулся за следующим пакетом. Он разрезал шпагат. «Пчелка, пчелка, не ленись ты, в рот возьми сирени листик». Интересно, что бы по этому поводу сказал доктор Фрейд? Какие-то неподписанные памфлеты против деистов – жуткая тощища, Джереми тут же отложил их подальше. Но вот кое-что занятное – экземпляр «Серьезного призвания» Лоу с собственноручными пометками Эдварда Гиббона[30 - Гиббон, Эдвард (1737–1794) – выдающийся английский историк.]
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: