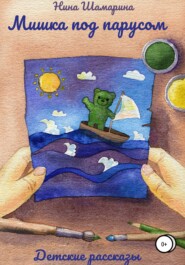По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Разноцветные шары желаний. Сборник рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Амирам возвращался с кладбища. Год прошёл с тех пор, как умерла его жена, но Амирам никак не мог к этому привыкнуть. Вот и сейчас, глядя на свои ботинки, перепачканные землёй и глиной, мысленно оправдывался перед женой, и тут же одёргивал себя:
– Полно, Амирам, ты же с могилы Людмилы и едешь. Нету никого дома, никто не заметит твоих грязных ботинок, кроме тебя самого.
Амирам не глядел на своё отражение на стекле двери вагона, трогал ворот зелёного вязаного женой свитера. Людмила вязать любила, приговаривая, что для хорошего человека вязать – «одно удовольствие». На полке в шкафу аккуратно сложенными лежат свитера – серый, чёрный, нарядный белый. На всех косы и ещё араны. Перед тем как взяться за новый свитер, Людмила показывала Амираму эти самые араны, которые, перекликаясь с его именем, привносили в её поделки дополнительный тайный, никому, кроме них, не ведомый смысл.
У Амирама всегда отрастали длинные волосы. Иногда он схватывал их резинкой в низкий хвост, а Людмила, хохоча, заплетала его в косичку. Тогда косичек мужчины не носили, эта мода пришла лишь сейчас, когда волос у Амирама почти не осталось. Он по-прежнему стягивал их остатки резинкой. Низкий хвост пегого цвета выглядывал из-под шапки, и окружающим казалось, наверное, что волос у Амирама много, но грелась под чёрной шапкой обширная лысина. Да что ему за дело до окружающих? И какое дело окружающим до Амирама? Сидят, уткнувшись в свои телефоны. А Амираму мобильник так и не пригодился, хотя он носил его всегда с собой, почти им не пользуясь. Людмиле звонить с работы ни к чему: он заканчивал ровно в шесть, и через десять минут уже открывал дверь своей квартиры, зачем звонить? По выходным они не расставались, и телефон опять не нужен. Но пунктуальный Амирам каждый вечер заряжал его, как когда-то заводил настенные часы, пополнял баланс.
И лишь однажды телефон мог, наверное, сослужить службу Амираму. Или не мог? В тот день ровно в три директор собрал руководителей отделов на совещание, и Амирам, явившись в зал минута в минуту, оставил трубку в ящике стола. Когда он вернулся, на дисплее светился один пропущенный звонок с домашнего номера и один с мобильного жены. Амирам тут же перезвонил и, слушая однообразные гудки и по тому, и по другому номеру, встревожился. Придя домой в тишину квартиры и прочитав записку «увезли на скорой», поспешил в больницу, но Людмилу живой не застал. Потом в суете похорон, в оглушительной пустоте последующих дней, даже сейчас, когда прошёл целый год, Амираму не давал покоя тот единственный, и, получилось, последний звонок его жены. Что она хотела ему сказать?
Сейчас Амирам придёт домой, перво-наперво почистит ботинки, потом согреет чай, и, не снимая зелёного свитера, подойдет с кружкой к фотографии смеющейся жены. И заново вглядываясь в весёлые глаза, будет спрашивать: «Почему ты молчала, Людмила?»
***
– Как ты вырос, Амка! – говорила мама, гладя Амирама по голове. За лето в пионерском лагере волосы сильно отрастали, висели прямыми блестящими прядями, делая его лицо ещё более узким и вытянутым. С такой причёской Амирам красовался весь сентябрь, несмотря на записи в дневнике и даже вызовы к директору. Шёл в парикмахерскую лишь тогда, когда противостояние с классной обещало перерасти в вызов в школу родителей.
Родители Амирама были слепыми: отец абсолютно, а мама признавалась в их дворе зрячей – у неё сохранялось пятьдесят процентов зрения. Их девятиэтажный дом назывался в округе «Дом слепых», в нём давали квартиры, тем, кто работал на «УПП ВОС»[1 - «УПП ВОС» – учебно-производственное предприятие Всероссийского Общества Слепых]. Ни Амирам, ни кто-либо из его дворовых друзей не видели особой разницы между слепыми и зрячими. Их отцы так же, как любые другие, ходили на работу, а по вечерам забивали во дворе «козла», настолько быстро пересчитывая количество меток на доминошках чуткими пальцами, что никто из соседних дворов играть с ними не садился. Мамы почти все оставались дома, на хозяйстве: обед, стирка, уборка. В квартире, как её сейчас вспоминал Амирам, довлели чистота и порядок. Все вещи лежали и стояли строго на своих местах, будь то огромный диван в комнате родителей, или стакан с карандашами на письменном столе у Амирама. И ещё – очень тихо, как будто не слепые в ней жили, а глухонемые: редко звонил телефон, едва слышно бубнило радио под потолком. Мама читала книги – свои специальные, в которых Амирам ничего не понимал. Если он не хотел делать уроки, и вместо упражнений по русскому смотрел в окно, мама произносила тихо:
– Пиши, Амка, о чём думаешь?
В детстве всё это совсем не удивляло Амирама – так он жил всегда, так жили его друзья. Это потом, во взрослой жизни, когда всё делал по дому сам, по обыкновению, годами не сдвигая вещи с привычных мест, методично складывая вилки в правый кармашек подставки, а ложки в левый, оценил каждодневные сложности жизни родителей. Однажды сели ужинать. Отец скупым движением взял правой рукой нож, а левая не нащупала вилки. Мама запамятовала, не положила. Отец окаменел. И вдруг заверещал тонким голосом на одной ноте «и-и-и-и-и-и». Амирам замер на секунду, а потом, метнувшись к кухонному шкафчику и выхватив оттуда вилку, стал лихорадочно пихать её в руку продолжавшему кричать отцу. Мама, вскочив, прижала вилку в Амирамовой руке к столу, и с усилием накрыла злосчастный столовый прибор отцовской рукой. Тот сразу успокоился и лишь капли пота, выступившие на лбу, напоминали о минутной истерике.
Мама погладила по плечу отца, Амирама, и ужин продолжался, как ни в чём ни бывало, даром что Амирама била дрожь, и он не чувствовал вкуса любимых «ёжиков».
Много лет Амирам помнил охвативший его тогда ужас, осознавая с того дня, что вещи на привычных местах для отца – не только удобство, а как маяк для заблудившегося моряка, как верёвка для альпиниста, как яркий свет в его темноте.
Диковинное имя не находилось ни в словарях, ни святцах, куда заглядывал Амирам, надеясь уяснить, что оно означает или как переводится. Вовка из его класса с гордостью замечал, что он-де, Владимир – владеет миром, а Галка Смирнова подтверждала значение своего имени «Тишь, спокойствие» постоянно задрёмывая на уроках. Ребята дразнили Амирама «джигитом», да и сам он удивлялся: Амирам Александрович Николаев – каково?
Рассказал отец:
– Матери, с её зрением, рожать рискованно, да и я к тому времени уже в полной темноте жил («в темноте» – так они о себе говорили, разделяя темноту на «полную», «почти темноту» и «едва в темноте»). Да у неё ещё какие-то болячки нашлись… Короче, чуть на тот свет вместе с тобой не отправилась. Врачиха спасла – Анна Михайловна. Но не называть же тебя Анной? – отец мелко смеялся, – вот и назвали, по прежней моде, что ещё до твоего рождения утвердилась. Тогда-то, каких имён не выдумывали! Владилен – это сокращённо Владимир Ильич Ленин, Мэлс – Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Ну и мы имя спасительницы нашей сократили: она – Анна Михайловна Раменская – вот и получился АМиРам. Красиво, согласись!
И ещё отец уверял, что видит иногда.
– Мне повезло, – говорил он, – я вижу свет. Если лампа горит, я вижу белое пятно, некоторые и этого не видят. И ещё, – отец понижал голос до шёпота, – я маму твою вижу. От неё тоже свет исходит! Не знаю, как это объяснить. Я когда на неё смотрю, вот, как на тебя сейчас (отец поворачивал к Амираму лицо), жёлтый свет различаю – мягкий, тёплый.
Лет с двенадцати летними месяцами, исключая один – в лагере, Амирам работал с отцом на комбинате. Работу ему давали несложную – собирать пластмассовые выключатели и розетки, нанизывая их отдельные детальки на маленькие винтики – но сдельную. Сидя за длинным столом рядом с дядей Васей (жил в «полной темноте»), Амирам мог едва-едва выполнить норму, в отличие от того же дяди Васи.
– Не суетись, малец, – говорил ему наставник, – спешка нужна при ловле блох. А тут точность главное и порядок.
И вот эти порядок, точность и тишину сохранял Амирам в своём доме, в своей работе и в своей жизни.
***
Повзрослел Амирам в одночасье. Он буквально вчера отгулял выпускной, на котором уже под утро, когда побрели все вместе встречать восход в Крылатское, увидел, как Таня, любимая одноклассница, целуется с Серёжкой Соловьёвым, и поклялся сам себе, что никогда не женится. А в середине июля отца сбила машина, когда он переходил Молодогвардейскую. Шёл на работу, как делал это изо дня в день, из года в год, и белую трость держал в руке, при том, что дорогу он знал наизусть. Чтобы видели – идёт слепой. Но водитель не увидел. Его осудили потом, когда и мама уже угасла. Сорок дней после смерти отца она, сгорбившись, сидела на стуле, почти не ела, почти не спала. Не плакала, но как будто таяла, становилась прозрачной. Амирам тормошил её, как мог, но она лишь трогала его волосы невесомой ладонью, а на сороковой день тихо прилегла на нерастеленную постель, прямо на белое покрывало, почти сливаясь с ним, да так больше и не поднялась.
Единственная радость среди этих бед – Амираму уже исполнилось восемнадцать, детдом не грозил. В тот день, как раз и стукнуло, когда Таню обнимал Серёжка. Как давно это произошло, в прошлой жизни. Армия с его «минус шесть» над Амирамом не висела, а жаль! «Воевал» бы он сейчас с удовольствием, бил, крушил и ломал, вопреки своему сдержанному и незлобивому характеру.
Квартиру Амирам поменял. Не без труда купил газету по обмену, а варианты его, практически, не интересовали: лишь бы подальше отсюда, от этого дома, где каждый незрячий взгляд в его сторону сочувствовал, любой пыльный куст под окном помнил его родителей, всякая вещь в доме до последней тряпки для уборки хранила прикосновение материнских рук.
Так Амирам остался один на улице Авиамоторной. Работу, так же, как и квартиру, искать почти не пришлось. На той же Авиамоторной улице находился исследовательский институт. Амирама взяли в тот же день, что он пришёл в отдел кадров, в КИПиА[2 - КИПиА – Контрольно-измерительные приборы и аппараты], и работа сталась «под рост» Амирамовскому характеру. Здесь его некоторое занудство обернулось дотошностью, а точность в движениях и аккуратность, которым учил его когда-то дядя Вася, пришлись, как нельзя, кстати.
И потянулись монотонные месяцы и годы. В любое буднее утро Амирам в 9-25 приходил в институт. Просматривал журнал вызовов, ходил по лабораториям, что мог – исправлял на месте, приборы, требующие более сложного ремонта, уносил к себе в мастерскую. Обедал в институтской столовой, после обеда и до конца дня сидел в мастерской, отлаживая сбившиеся весы, неисправные фотоэлектрокалориметры и спектрофотометры.
После работы – домой. Ужин, книжка, телевизор. Суббота вся уходила на уборку и очереди в магазинах, воскресенье – кино, изредка театр (в институте распространяли билеты), крайне редко друзья из прошлого. В настоящем друзей Амирам не завёл, а в свой двор «Дома слепых» ни разу не захаживал. Каждый вечер Амирам заводил будильник, но просыпался всегда сам, чуть-чуть раньше его звонка. Не открывая глаз, прислушивался к знакомым звукам, если слышал новые, пытался определить, откуда они исходят, представляя себя слепым, непонятно зачем.
В институте, где, в основном, работали женщины, лаборатории полным-полны были девчонок-лаборанток. Конечно, Амирам – с длинными блестящими волосами, в чистом отутюженном синем рабочем халате, в очках с тонкой золотистой оправой – не мог остаться незамеченным. Даже некоторые суховатые учёные дамы посматривали на него с тайной надеждой, что уж говорить о лаборантках.
Особенно доставала его одна, даже оформляла ложные вызовы. Придёт Амирам, проверит – в порядке весы.
– Продолжайте работать, – скажет и пойдёт себе в мастерскую, чувствуя спиной расстроенный взгляд.
Девчонка никак не могла понять, что она – целиком и полностью не во вкусе Амирама. Всего в ней чересчур: сдобные формы, грудь, вываливающаяся из белого халата, под которым у неё – единственно – нижнее бельё, порывистые движения, громкий смех. Однажды Амирам увидел, как она берёт крошечные миллиграммовые гирьки аналитических микровесов рукой, а не пинцетом, что привело его в такое негодование, что ни о какой душевной тяге к этой девушке не могло быть и речи.
Нет, нельзя сказать, что Амираму не хотелось жениться. Таня давно перестала волновать, забылась и клятва, данная себе сгоряча. Уже в юности, оказавшись по своей воле в глухом одиночестве, как «в темноте», в которой жили когда-то его родители, Амирам мечтал найти родную душу, привести её в свою квартиру. Но эта «родная душа» грезилась такой же, как мама: спокойной, молчаливой, аккуратной. Должна жить по правилам Амирама, которые он выучил в своей семье, а теперь, когда жизнь перевалила за тридцать, эти правила стали частью его самого.
Как-то раз Амирам заглянул на «Новогодний вечер», который проводился в актовом зале в последний рабочий день декабря.
Из динамиков лился «медляк», обнимались пары – те же лаборантки с шофёрами и механиками. Амирам, еле выдержав полчаса (слава богу, ни разу за это время не объявили «Белый танец»), сбежал домой.
Однажды, покупая «Вечёрку» в киоске, Амирам неожиданно для себя купил толстенькую непривычного формата газету «Из рук в руки». Дома полистал из интереса. Подивился тому, как много люди продают и покупают, ищут работу, обмениваются монетами и книгами. И наравне с продажей сапог и предложением отремонтировать ванную комнату, в газете размещались объявления о поиске женщин и мужчин. Это так взбудоражило обычно невозмутимого Амирама, что он, отложив газету, прошёлся по коридору туда и обратно, а потом, подойдя к кухонному окну и глядя на освещённый холл института, постоял, успокаиваясь и размышляя. Амирам не умел мечтать. Он считал, что мечту часто путают с целью. Но достичь цели – это скучно и прагматично, а мечтать – это «в твоей душе живёт ребёнок».
– Если мечтаешь прыгнуть с парашютом, что мешает тебе это сделать? Или дом, предположим, купить на берегу океана, – сказал бы Амирам, если б его спросили.
Всё возможно, рассуждал он, если поставить перед собой цель и идти к ней.
Цель становится мечтой, когда она недостижима в силу не зависящих от тебя причин, ну, например, шагать по облакам, да ещё и откусывать от них!
Говорят, добро должно быть с кулаками. Так и с мечтой: работай на свою мечту, и она обязательно сбудется – в этом Амирам был убеждён.
А вот сейчас, стоя у окна, размечтался. Представил женщину небольшого роста с тёмными короткими волосами и глубокими карими глазами, худенькую и бледную. Она ходит по кухне, читает те же книги, что и он, так же, как он, любит тишину и устаёт от большого количества шумных людей.
Вернулся, почитал объявления от женщин. Требования их к мужчинам вполне приземлённые: непьющий (наверное, это имелось в виду под словами «без вредных привычек»?), чтобы любил детей (щепетильный Амирам и здесь увидел двойной смысл: вероятно, соискательница – с детьми), непременно высок и строен, с хорошим заработком. Эти качества у Амирама присутствовали, однако по части «хорошего заработка» он никогда не задумывался. В конце всех объявлений указывался «абонентский ящик номер …» и замечание «фотография обязательна».
И назавтра Амирам сходил на почту, оплатил абонентский ящик на полгода. Отпущенный самому себе срок – как обещание того, что за эти полгода он найдёт такую женщину, которая так же незаметно и бесшумно, как когда-то мама, будет хозяйничать в его квартире. Зашёл в фотостудию. Фотограф долго выпытывал, какая фотография ему нужна, если не на паспорт. Потом, гаденько улыбаясь, спросил: «Для газеты знакомств?», – но фотографию через три дня выдал хорошего качества и по размеру точно подходящую для конверта.
Дома Амирам ещё раз прочёл все объявления от женщин о поиске «серьёзных отношений», выделив те из них, где о детях ничего не говорилось. Потом, поколебавшись, вычеркнул объявления с возрастом претенденток до 30 лет и те, в которых искали «мужчину старше». Папочкой никому он становиться точно не хотел.
В результате осталось две подходящих Амираму дамы. Последнюю точку он поставил, оттолкнувшись от имени, и выбрал Людмилу. «Амирам и Людмила» – слышалось в этом сочетании нечто сказочное и элегантное одновременно.
Людмила писала, что отличается ровным и незлобивым характером, вдова, проживает в своей квартире.
***
Людмила уронила голову на стол, на белый лист, исписанный размашистым почерком её сына, и завыла в голос. Сторонний наблюдатель, если б таковой оказался, сказал бы, что Людмила упала на стол несколько театрально, но не случилось рядом никого, кто бы мог это сказать.
Сын писал, что домой после службы не возвращается, останется в Находке, где он уже почти женился, и это означало лишь то, что Людмила снова останется одна. Это проклятое ненавистное одиночество, против которого она восставала всем своим нутром, шло с нею рука об руку всю её жизнь. Рано оставшись без матери и приехав в Москву, Людмила устроилась на ЗИЛ, получила место в общежитии. И эту свою общажную жизнь вспоминала, как самое лучшее время: в комнате на десять человек, всегда кто-то дышал и двигался, кто-то всегда околачивался рядом, пусть молчком, пусть с книжкой, пусть даже спящий.
Потому как, быстро выйдя замуж, Людмила так же скоро вновь оказалась почти одна, с маленьким сыном в придачу. Муж очень скоро умер от разрушенной печени, оставив Людмиле кроме ребёнка и комнаты в коммуналке муторные воспоминания о своей развесёлой жизни, так рано закончившейся.