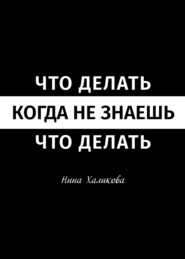По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сумерки богов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы верите в ад, господин писатель? – он задал этот вопрос так холодно, словно переменился и был уже не человеком, а дьяволом, не отбрасывающим тени.
Его вопросы навевали нехорошие предчувствия. Ад? Хотя я и сам не раз об этом задумывался, я почувствовал себя в высшей степени неуютно, но ответил всё так же спокойно:
– Полагаю, всё самое страшное, что с человеком может произойти, с ним происходит здесь. Ад – он не где-то там, в несуществующем мире, ад – он ЗДЕСЬ, – я сделал ударение на последнем слове.
– Всё верно, – задумчиво произнёс Александр Петрович и забарабанил пальцами по столу, – хотя… всё это теоретические утверждения… однако… всё верно.
– Верно что?
– Вы именно тот человек, с которым я хочу говорить, – он посмотрел на меня очень благосклонно. – Вы – писатель, а это означает, что вы мыслящий и чувствующий, вы человек рассуждающий.
– Ну-ну, не торопитесь составить обо мне суждение, – воспротивился я, поскольку никогда не мнил себя мыслителем. – Быть писателем ещё не значит быть мыслителем. И потом мыслить – не всегда есть благо, уж поверьте.
Признаюсь здесь в том, что в этой фразе я был сама искренность, сама открытость, потому что считал и считаю способность к рассуждениям и анализу вещью чудовищной, странной, я бы даже сказал, пагубной, ибо не каждому чувству или ощущению следует позволять оформиться в мысль. Этого добра я нахлебался в жизни предостаточно. Есть счастливчики, которым не дано понять причин своих поступков и чувств, или они ещё не готовы их постигать. И слава богу! Они избавляют себя от тягостных рассуждений, и им хорошо в неведении, им живётся и легче, и проще. В моём случае (как это ни прискорбно!) рассуждать – это профессионально отработанная неизбежность. Коротко говоря, жить в реальном мире куда труднее, нежели в иллюзорном, но никуда тебе уже не деться. Вот так-то.
Некоторое время мы сидели молча, из чего я понял, что его предисловие закончилось. Потом Александр Петрович вновь заговорил и заелозил руками по столу:
– Ну, что же, пожалуй, начну, хотя, сразу предупреждаю, рассказчик из меня посредственный. Поэтической формы не обещаю, зато постараюсь передать события без всякой субъективной оценки его участников, без осуждения или восхищения. Мистерия не слишком древняя, и не особенно моралитэ, но по нынешним временам сгодится.
– Итак, – он прикрыл глаза, будто пытаясь что-то вспомнить, – её звали Вера. Она была одинока – в том смысле, что за ней не стояло родовое древо с глубокими корнями, которые питают, наставляют, поддерживают в чёрный день и дают возможность прочно стоять на земле; она была похожа на одинокий хрупкий цветок, на лилию, живущую на поверхности воды…
Его звали Киану, ему было… Впрочем, совсем неважно сколько ему было лет. Знаете, говорят, что евреи рождаются взрослыми, и это истинная правда. Это их еврейское счастье и их еврейское бремя. А того… другого… то есть третьего… – он запнулся, коснулся рукой лба, словно забыл, что хотел сказать. Его губы плотно сжались, в глубине синих глаз сверкнула какая-то фосфорная частица, и они сразу потухли, помертвели. – Простите, вы не возражаете, если я закажу нам ещё коньяка?
Я видел, как ему трудно, видел, как он хватается за меня, словно безногий за костыль, и уже не мог ему отказать. При взгляде в его странные погасшие глаза во мне зашевелилось нечто вроде сострадания. В эту минуту он не казался мне самоуверенным, как прежде, и я утвердительно кивнул. Александр Петрович махнул рукой официантке и заказал две двойные порции коньяка и ни крошки еды.
– Итак, в один прекрасный день наши герои познакомились, приглянулись друг другу и обнаружили, что не имеют никаких серьёзных препятствий для долгой и счастливой совместной жизни. На первый взгляд, пара как пара, ничего примечательного, – вновь начал Александр Петрович, и его глаза лихорадочно заблестели, руки потянули со стола бумажные салфетки и начали сворачивать из них бумажный шарик. – Встречались они год или около того, и всё бы ничего, но иногда ему казалось, что она смотрит на него откровенно равнодушным оком, и его это огорчало. Она же, в свою очередь, никак не могла понять, что их удерживает друг с другом, тем более что принадлежали они к разным кругам и общих знакомых не имели.
Киану был физиком, занимался наукой, читал лекции в университете на кафедре вычислительной физики, писал уже вторую монографию. Разумеется, невинным агнцем он не был, но и от пороков, от беспорядочных амурных похождений держался подальше, иными словами, юными девами не особенно соблазнялся.
Вера была хирургической сестрой. Когда-то она поступала в медицинский, но не прошла по баллам и стала служить в городской больнице, выхаживая больных после полостных и эндоскопических операций. Становиться доктором она не собиралась, да и вообще была не от мира сего. Казалось бы, с её работой она должна была бы находиться глубоко в реальности, ан нет, девушка оказалась возвышенной и восхищающейся понемногу всем, что имеет отношение к науке, искусству, архитектуре, литературе, математике – словом, к тем вещам, какие в её повседневной работе отсутствовали. Ещё больше восхищали её люди из этих сфер – творцы. Нельзя сказать, что к людям простого труда она относилась предвзято, что её интересовали деньги или она придавала какое-то значение социальным различиям – ни в коем случае, такие предрассудки у неё отсутствовали, – просто с творцами ей было интереснее, что ли… или…
Короче говоря, судьбе было угодно ненадолго сделать Киану пациентом Веры. Этот молодой человек оказался в больнице по ничтожному хирургическому поводу, провалялся месячишко на койке, далее молодость сыграла свою роль, и всё произошло само собой. Киану умел производить впечатление на женщин. Какой он был на самом деле, женщины понимали с некоторым опозданием, однако первое впечатление всегда остаётся нетронутым. Словом, он ей понравился и внешностью, и родом занятий, и она его тоже заинтересовала, поскольку в ней не было ни капли вульгарности. Без преувеличения могу сказать, что это была необыкновенная утончённая натура, лишённая всякого притворства, с простыми и немного наивными для её возраста манерами, но девичья наивность не только простительна, но и до некоторой степени изящна…
Наконец-то на электронном табло появилась долгожданная надпись. На наш рейс объявили посадку.
– Александр Петрович, нам надо поторапливаться, иначе опоздаем на самолёт.
Прилично подогретые коньяком, мы расплатились, вышли из ресторана и начали пробираться сквозь толчею, сквозь начинающийся ажиотаж, бормоча извинения направо и налево.
* * *
Самолёт равнодушно катился по взлётно-посадочной полосе, громыхая шасси и дребезжа крыльями. Мой собеседник сидел рядом и молчал, устало прислонив голову к исполосованному дождём окну, в котором трепыхались поеденное ржавчиной бортовое крыло и часть фюзеляжа. Видимо, настырность изменила Александру Петровичу. Но я твёрдо решил не приходить ему на помощь. То, что его место оказалось по соседству с моим, меня нисколько не удивило, да и вообще этот факт вряд ли можно отнести к простому совпадению. Скорее всего, Александр Петрович, без всякого зазрения совести, предусмотрительно позаботился о том, чтобы моё длительное пребывание на борту не оказалось слишком однообразным, а у него появилось больше возможности реализоваться в роли рассказчика. Вот спасибо так спасибо, подкинула мне судьба попутчика – ложку мимо рта не пронесёт. Такие, как он, быстро выдвигаются в первые ряды. Я почувствовал себя как человек, оказавшийся в Помпее во время извержения Везувия: очень хочется убежать и спастись, но это невозможно, ибо бежать некуда. Ничего, кроме досады, эта мысль во мне не вызвала.
Зловредный дождь продолжал свирепо барабанить по стеклу иллюминатора и кромсать в клочья остатки ночи. Самолёт кое- как набрал высоту, и город под ним растаял в тумане. Молчание становилось гнетущим, но я не был уверен, что хочу прерывать его. Пусть себе молчит, мне-то что. Вопросов задавать не стану. Не могу описать, насколько мне было всё равно. Я хотел всего лишь выспаться, прийти в состояние покоя и не думать ни о чём. В конце концов так и получилось: моё тело стало расслабляться в углублении кресла, я прикрыл глаза, устало вытянул ноги и прислушивался, как напряжённое дыхание двигателей перемешивается с моим собственным. От уютного кожаного тепла сознание моё быстро затуманилось, я почувствовал себя легко и вскоре благополучно задремал, провалился в самолётное забытьё.
Трудно сказать, сколько времени я проспал, но когда очнулся, самолёт уже преодолел разрывы тёмных плотных туч, вынырнул из кромешной тьмы на свободу и с мерным жужжанием взмыл в ослепительные, сияющие чистотой небеса. Пошевелив одеревеневшими руками и ногами, я ожил и взглянул на своего попутчика.
– Вы верующий, господин писатель? – неожиданно спросил человек науки, который, судя по всему, за это время и глаз не сомкнул. Он так резко придвинулся ко мне, что я вынужден был поплотнее прижать свои руки к бокам и уйти поглубже в кресло.
– Посмотрите в окно, Александр Петрович. Мы худо-бедно летим в самолёте, а в самолёте трудно быть атеистом. Сами понимаете…
После этих слов между нами вновь воцарилось гнетущее молчание. Правда, я хотел было добавить, что на борту падающего самолёта атеистов вообще не бывает, но как-то поделикатничал, воздержался, поскольку в воздухе такие толки не совсем уместны. Тем более что на этом ржавом корыте нам с Александром Петровичем Евиным предстоит облететь половину земного шара…
* * *
В половине шестого вечера было совсем светло. К началу апреля день заметно прибавился, беспечная синева неба хоть и подёрнулась вечерней дымкой, но не спешила окончательно спрятаться во мрак. Лёгкий ветерок покачивал голые ветви деревьев, нагоняя ароматы волнующих фантазий, волнений, предвкушаемых ожиданий, цветных красок, радостных забвений, внезапных возбуждений и разных томлений, природу и смысл которых трудно понять, но эти смутные желания обычно обуревают по весне, особенно в молодости. С возрастом же эти фантазии-томления-желания быстро излечиваются, испаряются, улетучиваются неизвестно куда, а без них весна может показаться всего лишь обычным промозглым временем года…
Вера Ким сидела в «русском» кафе перед чашкой остывшего зелёного чая и, меланхолично уставившись в окно, ощущала запах весны даже через стёкла. Вера была хрупкая, черноволосая, белокожая, с высокими утончёнными скулами и карими раскосыми глазами – словом, безупречно красивая девушка, как две капли воды похожая на прелестную копию восточной богини. Было ей уже двадцать семь, но выглядела она совсем юной, почти школьницей, как это бывает лишь с женщинами до тридцати. В этом возрасте годы не сказываются на облике, не разрушают его прелести, а мягко текут по нему, как морская вода по русалочьим хвостам, не оставляя следов времени.
В белом шерстяном пальто, Вера сидела у окна и смотрела через огромное стекло на противоположную сторону улицы: прислонённые друг к другу дома грязно-пастельных цветов, золочёный купол старинного собора, высящийся над прочими строениями, отблеск уходящего дня, с особой грацией зацепившийся за купол, крохотные птички, парящие в этом отблеске над изгибом купола и разрисовывающие небо своими быстрыми крыльями, – словом – весна. Какой чудесный вид! Если бы Вера была живописцем, то её рука, наверное, потянулась бы к альбому и набросала небольшой эскиз: как очнувшиеся от зимы фантазии реют в небе, как сердце дрожит и носится в светлом воздухе над куполом вместе с птицами, как уснувшие мечты неожиданно просыпаются по весне и кружат, кружат голову… Красиво…
Вера наивно питала страсть к красоте. Может, оттого она и чувствовала себя частью вечера, частью мерцающего купола и парящей птицей одновременно, оттого и замечала, как луч скользил сквозь неё, как ветер перемешивался с её тёплым дыханием. Для неё это было естественным, по-другому и быть не могло. Вера закрыла раскосые глаза и попыталась уловить крохотное мгновение счастья, как это делала в детстве в солнечные беззаботные дни каникул, понимая, что всё хорошее рано или поздно заканчивается… Неожиданно, словно при вспышке весенней молнии, ей представились грани чего-то огромного неспокойного, окутанного тайной и уводящего за пределы разума, озаряющего и уничтожающего, – словом того, чего она ни разу в жизни не испытала. Представились и исчезли, как если бы вызывающий любопытство и возбуждающий аппетит экзотический плод таял в воздухе, стоило лишь протянуть к нему руку. Вера иронично усмехнулась. Весна! Весна!
Неожиданно она вспомнила, как точно такой же весной, под такими же первыми несмелыми лучами училась кататься на велосипеде, как хрустел под колёсами гравий, вспомнила, как она падала в холодные апрельские лужи, как сжимала руками разбитые мокрые колени, как плакала от досады, глотая солёные слёзы разочарования. Как ватага пробегающих ребят останавливалась рядом и громко аплодировала, и лишь один из них подходил к ней с самым серьёзным видом и вытирал её девичьи слёзы своим засаленным мальчишеским рукавом. Потом она сразу же вспомнила о тех временах, когда взрослела, становилась подростком, избавлялась от детской неуклюжести, как порхала изо дня в день, подобно летней бабочке, как шептала невнятные слова о любви, не имея о ней ни малейшего представления, как тайком грезила и как видела любовь в каждом дуновении ветра и в каждом прикосновении капель дождя.
Легким движением Вера коснулась своих колен, улыбнулась, растерянно посмотрела по сторонам и покачала головой. Аромат тех дней давно улетучился, оставив лишь щемящую, но приятную грусть, – кататься на велосипеде она так и не научилась, на свидания же ходила почти с каждым, кто приглашал, но грезить о несбывшемся не перестала.
Вечер медленно затоплял окна, на улице вспыхивали фонари, шум машин глухо доносился сквозь толстое оконное стекло. Достав из кармана маленькое зеркальце и взглянув в него, Вера осталась довольна. Она посмотрела по сторонам: в небольшой закусочной становилось людно. Обслуга, одетая в длинные русские полотняные рубахи, таскала графинчики, рюмки и блины с кулебяками, громко и преувеличенно-любезно зачем-то называла гостей «сударь» и «сударыня», но на этом, пожалуй, русский стиль и русское гостеприимство оканчивались.
Киану опаздывал почти на полчаса, и Вера даже подумала, что, возможно, он и вовсе не придёт. Мысль эта почему-то не огорчила, не приободрила, не утешила и не расстроила девушку. По странному расположению судьбы ей было решительно всё равно. Тем не менее откуда-то повеяло грустью, словно Вере чего-то не хватало, чтобы обрести полную завершённость в этой весне. Вечер и без Киану был слишком прекрасен, а заходящее солнце буквально шептало на ухо: «Не грусти, красавица, у тебя всё прекрасно, жизнь течёт дальше. Весна». Лицо Веры стало печальным, но в тоже время и исполненным манящей надежды, как у человека, который знает, чего он хочет. Словом – весна!
– Три тысячи извинений, – скороговоркой проговорил Киану, подходя к столу. – Прости, что заставил тебя скучать.
– Пустяки. Я вовсе не скучала, – искренно ответила Вера. – Знаешь, я люблю иногда помечтать в одиночестве.
– Вот как? Значит, тебе было всё равно, приду я или нет?
– Нет, что ты. Я тебя ждала.
Вероятнее всего, Вера должна была бы добавить, что ждала его всю жизнь, но такая ложь показалась ей слишком явной и предельно неискренней, хотя она понимала, что, возможно, именно её он и хочет услышать. Вера догадывалась, что у влюблённых принято целыми днями в опьянении думать друг о друге и с лихорадочным нетерпением ожидать встречи, но она этого не испытывала. Думал ли Киану о ней в её отсутствие, она не имела понятия, а он ей об этом не говорил, но что она знала наверняка, так это то, что она о нём почти не думала.
– Расскажи, о чём же ты мечтала?
Сердце Веры забилось чуть сильней, она поняла, что сболтнула лишнее, оттого немного приосанилась и зачем-то дотронулась до зеркальца в кармане пальто. Как бы не началась очередная затяжная сцена ревности. Киану был мастером подобных допросов, поэтому от прежней расслабленной Веры Ким не осталось и следа. Девушка знала: достаточно одной искры, чтобы его интерес к её прошлому мгновенно воспламенился. Ухаживания Киану не отличались особой изысканностью, поэтому Вера внутренне подобралась, насторожилась и стала выглядеть совсем иначе, чем за минуту до этого. Карие раскосые глаза сузились, расправленные плечи напряглись, а белая кожа стала болезненно бледной. За какую-то долю секунды купола собора поблёкли за окном, красивейший вечер утратил всю свою прелесть, казалось, ещё шаг – и он будет окончательно испорчен.
– Так о чём же?
– О, ничего особенного, – Вера беззаботно махнула рукой, – я вспоминала, как пыталась освоить велосипед.
– Велосипед? – Киану удивлённо округлил глаза, будто услышал нечто диковинное. – У тебя был велосипед? А кто учил тебя кататься? У тебя же был наставник? Он был старше тебя?
– Почему ты придаёшь значение тому, что неважно?
– Позволь мне самому судить, что важно, а что нет.
Он посмотрел на неё долгим настойчивым взглядом, не обещающим на сегодня ничего хорошего. Видимо, Киану не знал, что весной чувства должны быть красивыми и лёгкими. В его глазах не было ни красоты, ни лёгкости. Он не был щедр в любви, не тратил ласковых слов, словно они были у него наперечёт, не делал жестов, покоряющих женщину. Он всегда старался поменьше отдать отношениям, но при этом не упускал случая утвердить свою власть над женщиной, словно желая доминировать. Похоже, так он понимал мужскую любовь.
Вера улыбнулась. Разумеется, она хорошо относилась к нему, но к себе она относилась ещё лучше, и поэтому ей была откровенно неприятна эта сцена. Может, вся беда Киану в его подозрительности? Подозрительные люди во всём чувствуют подвох. Какой смысл говорить им правду, если они воспринимают её как ложь.