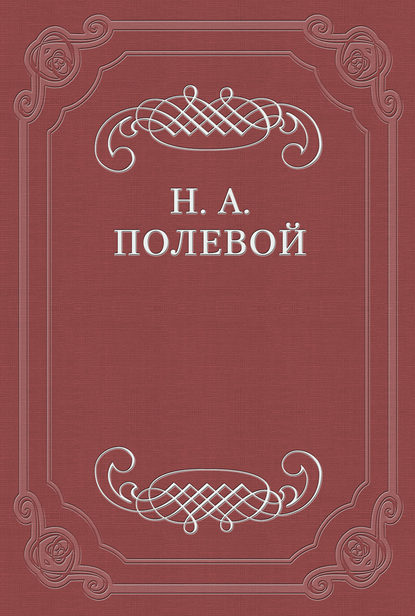По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Клятва при гробе Господнем
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Что сделалось?» – вскричал Шемяка, обращаясь к ним.
Но от ужаса они не могли вымолвить ни слова. Наконец один со страхом и трепетом воскликнул: «Князь Василий Юрьевич, брат твой!»
Не успел Шемяка отвечать ему, как Василий Косой вбежал в палату. Платье его было в беспорядке, лицо бледно, взоры сверкали, обнаженный меч был в руке его. За ним следовал князь Иоанн Можайский и еще несколько молодых военачальников. Платье их было все в пыли, и видно было, что они издалека скакали опрометью.
Спокойно стал Шемяка. Раскаленные взоры Косого упали на него. Он не думал встретить здесь брата, отшатнулся назад и, окидывая глазами собрание, возгласил охриплым голосом: «Кто смеет распоряжаться здесь, в моем доме, моею властью? Кто выслал этих презренных рабов кричать народу безумные речи с Красного крыльца?»
– Я, – твердо сказал Шемяка и устремил на брата смелые, но спокойные взоры.
«Ты?» – Косой остановился. «И ты, – продолжал он, после минутного молчания, – скрывал от меня кончину родителя? И ты велел провозглашать имя Василия, как имя Великого князя?»
– Я, – повторил еще раз Шемяка, – по завещанию отца, судьбам Бога и согласию всех сановников!
«Я посмотрю, кто осмелится восстать против своего законного властителя!» – возгласил Косой. Оттолкнув Шемяку, он стал посредине собрания и, опираясь на меч свой, воскликнул: «Великий князь не умирает. Родитель скончался: я ваш государь и повелитель!» Между тем палата наполнилась снова боярами и воеводами, хотя все они боязливо отодвигались от Косого. Следовавшие за ним молодые воеводы преклонили колена, обнажили мечи свои и закричали громко: «Да здравствует Великий князь Василий Юрьевич!» Но их было немного. Клик их разлетелся в палате без отголоска. Все безмолвствовали. Это молчание поразило Косого более грома небесного.
– Брат! – сказал Шемяка, – стыдно, позорно мне за тебя, смотря на то, в каком виде представляешься ты взорам моим! Не говорю о том, что в горестные минуты кончины родителя ты буйствуешь, а не молишься и не скорбишь, – но, скажи, к чему твоя безумная ярость? Так ли должен был ты начинать, если бы и в самом деле был ты законный наследник, или избранный отцом и народом преемник родителя своего?
«Ты враг мой, злодей, изменник! – воскликнул Косой. – Ты утаил от меня кончину отца, ты лишил меня даже его благословения!»
– Нет! Бог свидетель, что всюду разосланы были за тобою гонцы, и я сам едва успел прибыть из Симонова и находиться при блаженной его кончине! Так быстро позвал его к себе судия небесный… Родитель ждал тебя, звал нетерпеливо… – Голос Шемяки прервался от слез.
Скрывая движение свое, Косой отвернулся и сказал: «Он хотел мне передать старейшинство свое!»
– Нет! – отвечал Шемяка, поспешно отирая слезы, – не передать старейшинство, но – только благословить тебя, несчастный брат – несчастный, если сердце твое не умиляется! Такова была воля отца. – Шемяка развернул духовную Юрия. – Все кончено; все от тебя отступятся, если ты будешь еще упорствовать. Уже к присяге приводят жителей Москвы, уже поехали послы к Великому князю…
«Этому не бывать! Прочь, с подложного грамотою, – вскричал Косой, вырывая духовную отца своего и бросая ее на пол. – Скажи: за много ли продал ты брата и душу свою Василию?»
– Безумец! – воскликнул яростно Шемяка, но тотчас опомнился, подхватил духовную и с негодованием, но тихо продолжал: – Оставляем тебя безумию твоему! Пойдем, князья и бояре! Если гроб отца не вразумляет его, то нам не вразумить!
Он пошел. За ним следовали все другие, все, даже и пришедшие с Косым, кроме Иоанна Можайского. Косой хотел броситься в удалявшуюся толпу, не в силах будучи выговорить слова, но Иоанн Можайский удержал его, обнял, старался утишить. Палата опустела.
– Измена! – было перюе слово, вылетевшее из уст Косого.
«Успокойся, успокойся, князь!» – говорил Можайский.
– Гибель на роде нашем: брат предает брата.
В это время, случайно, кто-то растворил двери, и из внутренних покоев послышался громогласный возглас диакона: «Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему, Великому князю Георгию, и сотвори ему вечную память!»
Тихий, унылый хор запел: «Вечная память». Там отправляли духовные обряды при теле Юрия Димитриевича. Голос религии показался голосом вечности Косому. Он умолк и безмолвно преклонил голову на грудь Иоанна.
О Провидение! что пред тобою человек! Если бы несколькими часами прежде явился Косой, если бы он двинул воинские дружины, над которыми был главным вождем, тогда его приверженцы и сила могли бы, может быть, доставить ему венец Великокняжеский. Но к несчастию своему, с раннего утра, даже не видавшись с отцом, уехал он на обозрение дружин в окрестностях Москвы, готовя их в скорый поход против Василия.
Там едва могли сыскать его. Весть о близкой кончине отца так была неожиданна, так поразила его, что, приказав ехать за собою только обыкновенной страже, бросился он в Кремль, забыв все другое. В неистовство, в какое-то состояние бешенства пришел Косой, узнав в Кремле о смерти Юрия и услышав провозглашение Василия Великим князем. Он забыл сан свой, забыл все приличия, кинулся на извещавших народ бояр, и вслед за ними, не помня себя, вторгся в Большую палату.
Состояние его было ужасно. То припадал он к телу отца своего, плача кровавыми слезами, то бегал по опустелым палатам дворца, исторгая волосы с головы, кусая руки. Уничтожив достоинство человека, он уподоблялся дикому, бешеному зверю, готов был растерзать своими руками противников, готов был кликнуть клич буянам и отребию черни, вторгнуться с ними в Кремль, во дворец и скорее все разрушить, зажечь, разграбить Москву, нежели уступить ее другому! К вящему унижению, он видел, как спокойно было все окрест его, и люди и природа. Ясный летний день догорал на небе, и солнце, горя яркими лучами, закатывалось за небосклон. Тих, величественно спокоен был лик умершего отца его, и все безмолвствовало в Москве, в Кремле и во дворце. Иоанн Можайский следил за каждым его шагом, но Косому казался он приставником, определенным смотреть за поступками сумасшедшего.
– Князь! – сказал наконец Можайский, – что мы еще медлим? Давай руку на жизнь и на смерть! Дружины твои в сборе – туда к ним – напоим молодцов и подвинем их на Москву!
Будто от сна опомнился тогда Косой: «Ангел-хранитель! Твой ли голос я слышу? И я до сих пор не подумал об этом?» Он крепко обнял Иоанна. «По крайней мере, я ручаюсь за своих, – говорил Иоанн. – Можайцы не выдадут, а с их помощью мы возмутим Москву, или – испечем ее, как яичко, которым подавятся Василий и твой Шемяка!»
Через час Косой, Иоанн и несколько человек из свиты их скакали в ходынский табор. Но здесь надежда жестоко обманула их! На половине дороги встретился с ними князь Михаил Верейский. Он спешил с известием к Косому, что вскоре после отбытия его явились в ходынский табор присланные от Шемяки, Красного и от всего сонма бояр московских с объявлением о кончине Юрия, восшествии на престол великокняжеский Василия Васильевича и о немедленном целовании креста и Евангелия в верности сему новому властителю. С радостным шумом поднялся весь табор; несколько осмелившихся противоречить было схвачено, связано и повлечено в Москву. Воеводы один перед другим спешили присягать. И вся толпа воинов пустилась потом в Москву, разграбила дорогою, мимоходом, несколько погребов и рассеялась кто куда знал и хотел.
В нерешимости остановились и советовались князья, что делать, когда прискакал к ним вестник, что Кремль затворен, наполнен дружинами, и им всем позволено возвратиться не иначе, как без воинов и без оружия, а в противном случае объявляется князю Звенигородскому, князю Можайскому и князю Верейскому свободный выход из Москвы, куда им Бог на сердце положит; в случае же сопротивления и враждования опала великая.
– Начинать ли нам теперь неровную борьбу? – спросил Иоанн, усмехаясь. – Жаль, правду сказать, и Москвы.
«Да, битва будет неровна. Звенигородские, Галицкие, Верейские, Можайские дружины готовы на все – правда; но ладно ли и то будет, что мы начнем драться за Московский престол, когда еще дядю в могилу не опустили?» – отвечал Верейский.
Косой молчал и поехал вперед. Замолчали и другие. Когда кончились предместия Москвы, Косой оборотил коня, долго, неподвижно смотрел на этот обширный город и вдруг, опустив поводья, схватил руку Можайского и руку Верейского.
– У меня нет уже родных братьев более, – вскричал он, – нет их отныне! Друзья! Хотите ли вы на живот и на смерть!
«На живот и на смерть!» – вкричали оба князя.
Все трое соскочили с коней, обнялись и поклялись быть братьями.
– Я знаю робкий, хитрый, злобный нрав этого змееныша Василия, – сказал тогда Косой, – знаю и глупую доверчивость и легкомыслие моего брата Димитрия. Красный плаксивая ханжа и, конечно, кончит монастырем, или определится звонарем, либо просвирником в какую-нибудь обитель. Но Димитрий и Василий скоро перегрызутся, потому что один всему верит, другой не верит ничему. Итак, надобны только мужество, крепость духа и осторожность. Отныне я и Василий будем дотоле враждовать и резаться, пока один из нас не будет вырезан из числа живых! О, боярин Иоанн! Зачем нет тебя со мною! Не стало людей, как тебя не стало! Но твердая воля и крепкая рука стоят большого ума. Я возмущу Орду, восставлю Новгород, лучше испепелю Москву, нежели отдам ее моему злодею… Друзья! Еще раз: руки ваши?
Можайский и Верейский снова крепко пожали ему руку и в ту же самую ночь тайно скрылись из его табора. Утром дружины можайские и верейские двинулись восвояси.
Рано поутру Косой услышал об этом. Он только улыбнулся, велел немедленно сниматься и идти в Звенигород. Там были еще в плену София Витовтовна и Марья Ярославовна. Немедленно велел он отослать их в Москву, сказав: «Я не с бабами воюю!» Через несколько дней он оставил Звенигород, препоручив его Роману, и поспешно поскакал в Орду.
На другой день после отъезда Косого из Москвы происходили великолепные похороны Юрия. С восхождением солнца начался погребальный перебор колоколов. Примиренный гробом со всеми, умиливший сердца самих врагов смирением, сын Димитрия Донского вынесен был на руках детей своих и стариков бояр в Архангельский собор. Слезы лились при гробе его – но, впрочем, когда же они не льются? Народ во множестве толпился, смотрел на мертвеца с бесчувственным любопытством, совсем не думая читать разгадку вечности на оземленелом лице его. Многочисленное духовенство с крестами, образами, хоругвями, притекшее со всех сторон Москвы, богатый покров, лежавший на дубовой колоде, в которую положено было тело князя Юрия, звон колоколов, многочисленный сонм бояр и сановников, блестящие воинские дружины, вид Красного, в глубокой горести разливавшегося слезами, и Шемяки с мрачным, но бесслезным лицом, стоявшего во все продолжение литургии у головы тела – все это занимало и развлекало народ. Наконец, останки Юрия принял каменный склеп, между гробами Владимира Андреевича Храброго и младших братьев Юрьевых Андрея и Петра, в ногах Донского и Василия Димитриевича, от южной стороны к западным дверям Архангельского собора. «Здесь и меня положите!» – говорил Красный, когда земля глухо стучала о крышку гроба, и священник произносил в поучение живущим, бросая горсть ее на гроб: «Земля, и в землю идет!»
На другой день каменщики беззаботно складывали каменный голбчик над гробом князя, распевая: «Господи помилуй», а каменосечец иссекал пестрые буквы на камне, который должно было вмазать в голбчик, изображая ими следующую надпись:
«В лето 6942, иуния в 6-й день, на память преподобного отца нашего Висариона чудотворца, преставися благоверный князь Великий, Юрий Димитриевич, сын Димитрия Ивановича Донского; родися лета 6882-го, ноемврия в 26-й день, и крещен бысть игуменом, преподобным Сергием чудотворцем, в Переяславле-Залесском, а тезоименитство его бысть в той же день, праздника Освящения церкви святаго великомученика Георгия, иже в Киеве у Златых Врат».
– Что же ты не прибавил ничего о добродетелях, и философии никакой? – сказал ключарь собора, когда каменосечец принес эту надпись ко гробу.
«Мне ничего не заказывали».
– Видно забыли. А я сам слышал, что хотели прибавить: «Кая житейская пища пребывает печали непричастна? Кая ли слава стоит на земли?»
«Нет! – сказал соборный протоиерей, остановясь подле ключаря и опираясь на трость свою. – Мне сказывали, будто хотели приказать вырезать слова: Иже глубинами мудрости человеколюбие вся строя, иже на пользу всем подавая, едине содетелю, покой Господи, души усопших».
– А может! – промолвил ключарь. – Ну, вмазывай же поскорее, ведь уже скоро 7-й час дня. Да, кстати: поправь-ка дощечку на гробнице Ивана Данилыча: все выпадает.
Ночью, через три дня после похорон, приехал в Москву Василий Васильевич, облобызал, обласкал Шемяку и Красного. Договоры, тогда заключенные между ними, до сих пор целы, с восковыми печатями, из коих на Шемякиной виден воин старик в шеломе с татарскою надписью, а на Васильевой юноша в венце. Красный уехал в этот день в Троицко-Сергиевскую обитель. Шемяка договаривался за себя и за меньшого брата. Но, что было договариваться? «Вели написать, что ты знаешь», – сказал он Василию. Спокойно слушал потом Шемяка, когда читали договоры, в которых коленчатым полууставом означалось, что Василий утверждает за ними уделы, данные отцом: Рузу, Галич, части в Москве, и придает еще из удела дяди Константина Шемяке Углич и Ржев, а Красному Бежецкий Верх; но за то берет себе у них Дмитров, лишает Косого Звенигорода и Вятки, присовокупляя все это к Москве, и что Шемяка и Красный обязаны отступиться от брата и дружить, и ладить Великому князю Московскому.
Шемяка не сказал ни слова, приложил молча печать свою к грамоте и в тот же день уехал из Москвы. Василий набожно отправлял великолепные девятины, полусорочины и сорочины по дяде, сам присутствовал на панихидах у его гроба, давал милостыни, делал вклады; в нескольких монастырях читали за упокой его души Псалтырь и служили обедни.
Не только родные братья, но все отступилось от Косого. «При пире, при браге много друзей, а при слезах, да при горе нет никого», – говорит и не лжет пословица. В Орде встретили его кровавые битвы. Старый хан Улу-Махмет вышел на открытый бой с Кичи-Махметом, племянником своим. Ему было не до Руси, и Косому указали путь, когда приехали к хану московские послы. Через два месяца с берегов Волги Косой был уже на берегах Волхова. «Если хочешь, князь, у нас остаться, останься; хлеба новгородского не переешь, и удел тебе дадим, как Суздальскому князю даем хлеб и удел. Не хочешь – иди с Богом, а на Москву нас не подущай», – отвечало новгородское вече.
В Новгороде услышал Косой, что князь Роман сдал Звенигород московской дружине. Ему некуда было приклонить головы. С немногими удальцами новгородскими ушел он в Вятку, кликнул на бесприютство свое клич. К нему сбежался удалый народ, русские казаки, отчаянные головы. Врасплох схватил он Вологду; но московская рать явилась перед ним. Как бешеный волк, терзал он ряды московских дружин; но ничто не помогло! Раненый в битве Косой едва убежал в Кострому. Челядь его легла на месте сражения. В укрепленном таборе при впадении реки Костромы в Волгу близ древней обители Ипатьевской укрепился тогда Косой с остальною дружиною. На другом берегу реки стоял Басенок с москвичами. Косой предложил мир. Басенок принял его. К изумлению всех, не только Звенигород отдан был Косому, но Василий подарил еще ему Дмитров. Косой привел отчаянных удальцов в новый удел свой, не являлся в Москву, не ехал к братьям, которые, не принимая никакого участия в междоусобии, были: Шемяка в Угличе, Красный в Бежецке. Летописцы замечают, что в тот год весна была вельми студена. «Злоба человеческая простудит и лето на Руси», – говорили москвичи. Ждали, что будет…
Часть четвертая