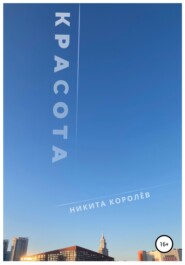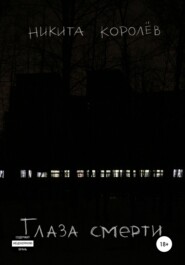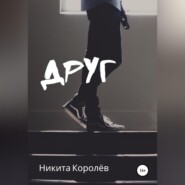По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На кромке сна
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, смелее, – с каким-то ехидством подбадривал его Денис.
– Где-то за фабричной дымом… – сказал Паня, словно бы выдохнув его часть из своих легких.
– Ну наконец-то! – воскликнул Денис. – Пойми: смена Солнца не всегда сопровождается затмением, после которого небеса от земли домкратами и гесиодами всякими отдирают – новый мир требует нового Апокалипсиса, так что лампочку теперь скручивают внутри наших черепных коробок, а уж солнце мы потом сами скручиваем подручными средствами. Солнце скрылось за фабричным туманом – точнее, мы сами его скрыли, чтобы ничто не могло больше отвлечь от того, чего не хватает. Это и есть затмение. Это и есть рождение нового Солнца.
Пане вспомнился эпизод из его прошлого. Вернее, не эпизод даже, а его чувственный отчет, а если еще точнее – безотчетная тоска, схватившая бедного Паню-восьмиклассника в свои металлически холодные и душные лапы. Он уже тогда писал музыку и стихи, пробовал себя в рассказах и уже тогда, как ему казалось, бороздя вечность, прислушивался к веяниям эпохи, за которые он принимал шуршание резиновой прослойки, нежно повторяющей все изгибы народного скипетра страсти и обещающей его владельцу безопасное удовольствие. Эту прослойку еще иногда называют культурой.
Тогда бы, конечно, он так не сказал, но нутром он чувствовал – сейчас, в начале десятых годов, она ищет новую клиентуру. Рок умер, а пердяще-стрекочущие пляски новых африканцев, чьи голоса променял бы на ведро крылышек разве что только голосовой помощник Урсулы, еще не вылупились из страусиных яиц саундклауда.
Приходя из школы, Паня, мучимый какими-то смутными любовными переживаниями, какие случались с ним из-за девочек, раньше остальных познавших родительские кошельки, заползал на мамин диван и медленно увязал в его теплых объятиях. Голова становилась невыносимо легкой, мир за мягкими пределами начинал казаться убийственно недружелюбным, холодным и каким-то слишком резвым, и Паня, уткнувшись в ложбинку между подушкой и подлокотником, словно бы прячась там не столько от мира, сколько от собственных мыслей на его счет, засыпал.
Открывал глаза он уже глубокой ночью, часа в два-в три. Чаще всего мама сидела в стоящем рядом кресле и смотрела телевизор – ночью шли какие-то большие, старые и уютные фильмы, чьи застекленные смыслы и образы навевали память о далеких временах, в которые Паня, конечно же, не жил. Но фантазии казались настолько убедительными, что ему казалось, будто он действительно все это вспоминает. Уже до самого утра Паня либо смотрел старые концерты на ютубе, либо тихонько поигрывал на отключенной электрогитаре, хотя часто эти два занятия он совмещал.
Паня очень любил это время – он словно бы гулял между этажами, которые только и умеют, что кричать в мусоропровод, обзывая друг друга то тринадцатым, то шестьдесят девятым. Однако и здесь, на притихшей в преддверии утра лестничной клетке, Пане было грустно: он жалел целый мир, в это время, в середине десятых, казалось, уныло похрустывающий несмешными блогерами и смешными альбомами от старичков, как целлофановый пакет – под утыканной бычками лавкой на каком-нибудь всеми забытом полустанке. Но грусть эта была глубока и прекрасна, как Байкал, на берегах которого Паня никогда не был.
Последнее воспоминание из этой удивительной, потусторонней жизни совпадает с последним учебным днем восьмого класса: Паня сидит на контрольной по литературе, подводит черно-белых писателей к их срокам жизни и буквально скрипит зубами от ненависти к своим одноклассникам, чьи гормонально оправданные улыбки на не менее гормонально изувеченных лицах вызывали у него воздушно-ноющие спазмы, отдаленно похожие на те, которые бывают перед поносом – только были они чуть выше, где-то в горле.
А потом – то ли Паня покрылся черствой коркой, которую ее носители гордо именуют взрослостью, то ли клиентура все-таки нашлась, а пакет с полустанка унесло ветром от промчавшегося мимо скорого – мир здорово крутанулся, и в девятый класс Паня пришел уже совсем другим человеком.
– Но мгла рассеется еще нескоро – говорил Денис, – и мы, конечно, новое Солнце не застанем. Однако будет все то же, что происходило уже множество раз: когда Юле перестанут быть нужны те, кто ее закручивают, мы не сможем стать ей, но сможем к ней подключиться, ползая по проводам со скоростью мысли. Потому что наше сознание, переживания, чувства создаются внутри тела так же, как ток – в теле электрического угря – это полностью биологический продукт. Без мяса оно – лишь мертвый сигнал, эхо, реликтовое излучение. Но оболочка не будет сидеть и ждать, пока мы настреляемся и надрочимся в виртуальном пространстве. Тот орган, который не тренируется, отмирает. Вычислительный элемент в наших головах не становится просто старым относительно новых моделей, как видеокарты и процессоры, которые давно не освежали, – он устаревает относительно самого себя. Люди еще две тысячи лет назад были намного смышленее, сильнее и здоровее нас, хотя нам с нашей смывающейся втулкой и ядерной бомбой кажется, что это не так, что мы осведомленнее этих дикарей с прялками, а значит, и умнее. Близорукие, ущербные, слабые, вечно болеющие, но умеющие готовить пиццу в микроволновке. Ты посмотри на нынешних детей, Пань, на каких-нибудь первоклашек, поквадратноголовно очкастых. Их родители разучились, как поет Киркоров, смотреть в даль и считать до ста, приковав свой взгляд к прямоугольной стекляшке в руке, а сами они делать этого уже не могут. Вся наша реальность – это программа, которая запускается и работает в зависимости от железа, то есть вычислительных органов и ПО, то есть психики. Это понятно даже потому, что, когда кто-то из непосвященных случайно разворачивает программу на полный экран, страдает именно последняя: начинаются вылеты, краши, лаги и прочие гештальты, против которых иным помогает только принудительное выключение… Так вот, в одно прекрасное, пьющее кофе и чистящее за нас зубы утро мы не потянем эту программу даже в том урезанном лайт-варианте, в котором она работала раньше, в котором в ней работал человек.
– Да, я и сам это уже давно заметил и смутно, но понимал, куда все оно ведет. Деградация, стеклянные ванночки, как в «Матрице», и все такое… Сегодня за пределами сети не растет уже почти ничего, а то, что растет, запержено копотью мемов, как жалкие кустики – у широкой автомагистрали. Всякие там концерты, вечера поэзии, премьеры стали просто сходкой подписчиков. Художник, писатель, музыкант, режиссер – это теперь паблик в ВК, а их творения – это посты, зажатые с двух сторон рекламой педикюра и делирий клаба. Но можно же что-то сделать, чтобы не обнулиться вместе со всеми?
– Когда новое Солнце только назревает, – говорил Денис, – только одним глазком выглядывает из-за горизонта, с нами общаются те, кто пережил его смену.
– Кто они?..
– Они приносят нам учения, духовные практики, – продолжал Денис после нескольких секунд внимательного молчания, – но слишком много из стада они не уводят – Солнцу нужны жертвы. Известно про них даже меньше, чем написано в священных книгах – те сплошь переписаны под нужды нынешних акционеров. Знаю только, что затмения они пережидали в горах, после чего расселялись все ниже и ниже по мере того, как напасть отступала. А иначе почему у армян, живущих под Араратом, куда причалил Ной, были уже университеты, пока мы, дольние, еще по веткам прыгали? Почему все известные мировой литературе сюжеты, сильнейшая медицина, духовные практики зародились на Тибете? Почему, наконец, Моисей поднялся за скрижалями на гору, а греки поклонялись Олимпу как жилищу богов? Я скажу очень простую, но почему-то мало кем мыслимую вещь: Боги, которым мы поклоняемся, – наши создатели в самом прямом смысле – они наши праотцы, наши предки…
– Хорошо, но что делать-то? – Паня сказал это с каким-то взрослым пренебрежительным нетерпением, которое он против воли перенял у тех, кто задавал ему этот же вопрос в ответ на его пространно-горние базары.
– Ты еще спроси, кто виноват… – усмехнулся Денис. – Ничего не делать. Тебе, наверно, кажется, что за этими метаморфозами стоят какие-то люди в пиджаках и черных очках, которые собираются каждый год в Богемской Роще; что отшелушивание целых цивилизаций происходит по чьей-то злой воле. На деле же это полностью обезличенный, стихийный процесс, как приливы и отливы, как опадение листвы осенью. А серьезные люди с портфельчиками вроде нас, совещающиеся за стеклянными стенами о разделе полушарий твоего мозга, – лишь ее посланники. Как жухлые листики или прохладное дуновение августовским вечером. Паня, выйди на улицу и посмотри вокруг – мир стареет: гарь и копоть – его отдышка, а стекло и асфальт – его артрит.
Они подошли к концу коридора. На поперечной стене в величавом одиночестве висела «Сайга», черная и глянцевитая, как нефть, для отжима которой ее и придумали.
– Президент сейчас в центре, на Лубянке – ФСБшников поздравляет, – говорил Денис, снимая карабин с крючков. – Только ты этим ничего не изменишь – он лишь нахлынувшая с волной вода, которая заполняет ямку на песчаном берегу; ну вычерпни ты воду – со следующей волной принесет новую.
В оцепеневшем Пане за одно мгновение промчался целый табун чувств и мыслей.
Сначала он не понимал и даже возмущался: зачем вообще Денис заговорил вдруг про президента, а сейчас протягивает ему громоздкую холодную железяку, как обращаться с которой, он понятия не имеет. Однако это недоумение смылось смущенным осознанием того, что именно за этим он сюда и шел, но только сейчас, с помощью Дениса, это понял. Как во сне, когда какой-то невнятный нарастающий звук вдруг становится будильником, а своды величественных, давно забытых храмов – потолком в спальне. И тут Паню охватило чувство такой безграничной свободы и окрыляющей вседозволенности, такого отчаянного авантюризма, который ощущаешь разве что летней ночью, выйдя из дома в пижаме и в тапках, или во сне, в котором ты, еще не успев проснуться, замечаешь подвох, что следующий вдох дался ему с большим трудом. Паня взял «Сайгу», немного согнулся под ее весом, но тут же упер приклад в плечо, поправил хватку, скользя ладонями по корпусу, и выпрямился.
Помещение лофта напоминает заброшенные заводские цеха, где в лохбабстерах плохие парни держат в заложниках твой мозг. Кирпичные стены с грубыми швами, пегий бетонный пол, железная винтовая лестница и маленький столик на одной ножке посередине. Вокруг все мельтешатся, мигает и ползает по стенам свет, выпучиваются объективы камер. Подошла миловидная девушка и прицепила на воротник микрофон-петличку. Потом ему. В руках он мусолит телефон, на задней крышке – его фамилия. И это не самовлюбленность – просто мерчендайз. Он будет в него подглядывать, когда потребуется дословно воспроизвести грязные следы, оставленные в информационном пространстве – когда надо будет пояснять за свои слова.
До начала съемки он спрашивал только о самом насущном: чай/кофе, удобно ли сидится. Конечно, дальше вопросы будут того же качества, но он, видимо, просто не хочет раньше времени раскрывать собеседника.
Здесь не будет долгих представлений – вся необходимая информация вынесена в название видео и описание. Еще будет плашка внизу экрана после нарезки лучших моментов с краткой характеристикой гостя и потом – ее исковерканный вариант под интервьюером. Для не особо популярных делают еще перечень заслуг на фоне стоп-кадра с гостем. В этом интервью так, скорее всего, и будет.
Вот все отстроено, и звучит команда «мотор». Все, кто в кадре, выходят на сцену, точнее, оказываются на ней со всем вытекающим лицедейством, хотя внешне ничего не поменялось. Без монтажных склеек это выглядит очень смешно.
– Пантелеймон Вымпелов, – говорит он с фирменным драматизмом, как будто речь идет о каких-то очень крупных суммах. – Давай начнем по порядку. Как ты сюда добрался?
– А, да на метро – мне не очень далеко.
– У тебя нет машины?
– У меня нет прав.
– Как такое произошло?
– Ну… я просто не очень хочу быть частью того белого шума, который я затыкаю наушниками каждый раз, когда иду вдоль дорог.
Он смотрит в камеру, переглядываясь со зрителями с ошеломленной улыбкой. Сегодня, судя по всему, это повторится еще не раз.
– Ладно, давай начнем по еще более порядочному порядку. В школе… кстати, напомни, когда ты ее закончил?
– Пять… пять с половиной лет назад.
– У тебя много было друзей?
– Нет, не очень.
– А врагов?
– Не было совсем.
– Как так?
– Просто я держался в стороне и не давал поводов ни для восторгов, ни для ненависти, хотя чаще всего в школьном зверинце все это может вызвать один и тот же поступок. Мне было как-то… брезгливо что ли.
– Объясни.
– Ну, люди вокруг были, как бы это сказать… обляпаны эпохой и их социальным классом. И даже не видели насколько сильно и насколько одинаково…
Эти слова наверняка выскочат закавыченной цитатой на белой полупрозрачной плашке с характерным «пшш».
– Насколько я знаю, институт ты бросил еще на первом курсе.
– Ну, между первым и вторым.
– Твои сверстники сейчас заканчивают вузы. Куда они пойдут дальше, это уже другая история, но лично ты не чувствуешь нехватки в бумажках?
– Да нет, за туалеткой я регулярно хожу.
Он беззвучно засмеялся, после чего с шелестом втянул воздух.
– Музыка! – с задором открывает он новый раздел интервью. – По итогам уходящего года твой дебютный – акустический, – поднимает палец, смотря в камеру, – альбом стал самым продаваемым в России. И это без баттлов, клипов, диссов и инстаграмов, – выдерживает долгую паузу. – Как?
– Понимаете… я бы долго мог затирать вам про всяких Кшиштофов Пендерецких и Карлхайнцев Штогхаузенов, которыми я вдохновлялся, и наверняка эти труднопроизносимые имена добавили бы моей музыке изыска и утонченности в глазах зрителей, но все это не будет правильным ответом на ваш вопрос. Правильным же ответом будет то, что я оказался певчей птичкой, которая прошла естественный отбор, потому что у других оказались не достаточно длинные крылья или недостаточно звонкие голоса. Но их здесь не показывают. Они сидят по комнатам в окраинных районах. И творят для себя и для друзей. Это и есть естественный отбор. Нужно понимать, что на каждый такой «правильный» ключик от сердец миллионов типа меня есть тысячи таких, у которых неправильная всего одна загогулина в бородке, но дверь уже не поддастся. Нет умения, но есть харизма. Есть харизма, но нет умения. Я всегда смотрел на звезду на пиксельном небосклоне как на венец эволюции. И очень, понимаете, тоскливо думать о тех жирафах, которые не вытянули шею достаточно высоко.
Другие электронные книги автора Никита Королёв
Другие аудиокниги автора Никита Королёв
Друг




 0
0