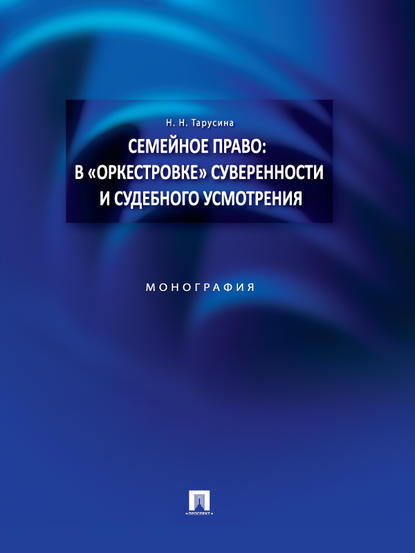По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Семейное право: в «оркестровке» суверенности и судебного усмотрения. Монография
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Шестое: проблема поиска общих (или относительно общих, отнюдь не универсальных, для осей «Восток – Запад – Север – Юг»
) мировоззренческих устоев для всего общества есть одновременно проблема взаимодействия различных религиозных течений и правомерности приоритета какого-либо из них перед другими на определенной государственной территории. При этом, обращаясь к проблемам взаимодействия норм религии и морали (как двух пересекающихся по объему и содержанию типов социального регулирования), многие исследователи отмечают, что, по существу, каждая из ведущих мировых религий имеет в своей основе пласт этических начал, во многом схожих между собой; это и есть общечеловеческие моральные ценности, которые, с одной стороны, «отражают и закрепляют тысячелетний опыт выживания и воспроизводства человечества, а с другой – являются напутствием к наиболее безболезненному становлению и развитию цивилизации»
.
Однако это мнение разделяется далеко не в полной мере. «В современном мире, – пишет Л. Р. Сюкияйнен, – последовательно юридический подход к правам человека и их трактовка ведущими религиями в рамках своего вероучения взаимодействуют весьма противоречиво. При этом исходные начала различных религий не совпадают друг с другом по ряду принципиальных моментов, в том числе по отношению к позитивному праву и той роли, которую они сами играют в правовом развитии отдельных стран и регионов»
.
Религиозное (православное) «правосознание, – отмечает О. Н. Петюкова, – опирается на уровень нормативной саморегуляции религиозно-нравственного характера, заложенный нормами церковного (канонического) права. Важным признаком правосознания как специфического типа духовности является воспроизведение национальных культурных архетипов справедливости, свободы и равенства»
.
Западная гуманистическая мораль, подчеркивает М. Варьяс, воспринимается как эталон западноевропейской цивилизации; Россия же, несмотря на позиционирование ее как страны европейского типа
, «исторически, этически, географически, а самое главное, в религиозно-духовном и культурном отношении принадлежит к другой цивилизации – восточно-христианской, для которой существуют собственные закономерности развития»
.
В дореволюционной России последний аспект проблемы решался однозначно: среди всех иных религий православие официально пользовалось исключительным идеологическим и правовым статусом, все остальные были лишь «терпимы»
.
Декретом СНК РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» этот постулат был дезавуирован, а отношения разрушены
. Только с началом коренного реформирования всего уклада российского общества – идеологии, государственности, экономики, быта – с конца 80-х гг. XX в. постулаты и практическая деятельность религии стали вновь осознаваться как социальные ценности и ее влияние на российское общество – возрастать. «Современная жизнь, – констатирует А. И. Бойко, – показывает, что духовенство лучше и оперативнее светских властей указывает и обосновывает стратегические пути развития общества, что теология переживает своеобразный Ренессанс. Все потому, что Церковь в определенном смысле надпартийна, олицетворяет надежды большинства, устойчиво служит общественному, а не частному интересу, несмотря на безопасный принцип симфонии
, обогревает надеждами и теплом… страждущих…»
Однако официальный приоритет Православной церкви не был и не мог быть возрожден – напротив, осуществлено конституционное (ст. 14) закрепление свободы вероисповеданий и свободы совести. Многонациональная и многоконфессиональная (и частично атеистическая) Россия иного себе позволить не может, впрочем, и ключевые конфессии – тоже.
Обратимся, однако, к светскому семейному праву России и его взаимодействию с религиозными нормами. До 1917 г. (января 1918 г.) официально доминирующей конфессией, как мы уже отмечали, признавалось православие, которое сосредоточивало свои нормативные помыслы и в религиозных источниках, и в российском церковном праве
, оказывая либо прямое, либо косвенное воздействие на отношения супружества, воспитание детей и образовательную деятельность. При этом «иноверцы» в своих поступках подчинялись не только светскому законодательству, но, будучи свободными от официального (православного) права, обращались к канонам своей религии, а атеисты и «раскольники» – только к светскому закону. Так, брак первых заключался при содействии духовного лица с соблюдением соответствующей процедуры (у мусульман, например, имел характер договора о создании семьи и рождении детей), а развод осуществлялся либо со значительной легкостью (например, для лиц евангельского исповедания) либо совершенно исключался (для католиков); смешанные браки имели специальную регламентацию; «нехристям» (например, раскольникам) дозволялось заключать гражданские браки (в России – с 1874 г.)
.
В указанный период взаимодействие канонов Русской православной церкви и светского законодательства в вопросах брака (в значительной степени) и семьи (существенно меньшей) было не только практически очевидным на бытовом уровне, но и публично признанным. Институт брака составлял значительный блок церковного права. Последнее же применялось и клириками, и юристами. А церковное право входило в образовательный стандарт правоведения, в том числе в Демидовском юридическом лицее
. Следуя православной линии христианства, российское законодательство не только во времена после крещения Руси, в Средние века, но и в XIX в. – начале XX в. признавало таинство сутью супружеского союза, опираясь на определение брака из Кормчей книги как «мужеви и жене сочетание, сбытие во всей жизни, божественныя и человеческие правды общение»
. При этом религиозные и нравственные сущности брака рассматривались многими известными цивилистами начала XIX в., как правило, в единстве. «С точки зрения религии, – отмечал Д. И. Мейер, – брак представляется учреждением, состоящим под покровительством божества; по учению же православной церкви – даже учреждением, совершаемым с его участием, – таинством. Равным образом и закон нравственный, независимо от религии, принимает в свою область учреждение брака и признает его союзом двух лиц разного пола, основанным на чувстве любви, который имеет своим назначением – восполнить личность отдельного человека, неполную в самой себе, личностью лица другого пола»
. Часть личных отношений (например, обязанность жены следовать за мужем, власть мужа над женой и детьми) и имущественные отношения супругов регулировались гражданским законодательством.
С 1917–1918 гг. ситуация принципиально изменилась. Отделение церкви от государства на политико-правовом уровне было сопровождено частным отрицанием действия православных канонов в отношениях брака и развода для российских граждан. Канон оставался в относительной силе для служителей церкви – относительной в том смысле, что последние должны были подчиняться и требованиям светского института брака. Переходным нормативным положением явилось признание юридической силы венчанных супружеских союзов, совершенных до 1917 г.
Разобщенность православного и законодательного представлений о браке, условиях его заключения и основаниях прекращения потеряла свою остроту в конце прошлого века и продолжает смягчаться в нынешнем столетии. Сближение, впрочем, не получило юридического значения – даже частичного.
Существенные отличия православного брачного права и светского законодательства в основном сводятся к трем. Первое: Церковь владеет определением брака
, закон – нет (наш законодатель и наши цивилисты до сих пор убеждены в невозможности дефинировать супружеский союз)
. Второе: требования действительности брака жестче и шире в церковном праве – за счет более глубокого запрета по родству и даже свойству, ограничения числа браков, условия о единоверии. Как известно, по церковному канону сомнения вызывает уже 3-й брак (он действителен лишь при определенных условиях), а 4-й брак не допускается; запрещены союзы между родственниками 4-й степени включительно, свойственниками (1-й степени; ранее – и более отдаленных степеней) и т. д. Очевидно, отмечает В. Цыпин, что священник или епископ не могут принимать решение о допустимости венчания в подобных ситуациях, более того, в отдельных случаях следует настаивать на прекращении кровосмесительного сожительства (уже зарегистрированного), сожительства с дочерью или сестрой первой жены
. Установлен и возрастной предел для заключения брака – 80 лет
. Третье: несравнимо либеральнее реагирует закон на основания и способы прекращения супружества (развод возможен по взаимному согласию, а при отсутствии оного – расторгается по настоянию одного из супругов, если судебные меры по примирению сторон не дали результата). Церковный же канон добровольного развода не знает и устанавливает перечень конкретных оснований к прекращению союза
. Однако в связи с действием в этом вопросе светского законодательства он непосредственно может воздействовать только на поведение служителя церкви. Расторжение венчанных браков неизбежно опирается на светские акты (административные или судебные) и практически осуществляется соответственно после «гражданского» развода
.
В то же время между церковной и светской ветвями брачного права есть немало общего, хотя и не тождественного. Первое сходство связано с возникновением брака: венчание в любом приходе, ведение церковной книги, выдача свидетельства о венчании – регистрация в любом органе ЗАГС России, фиксация акта в специальной книге, выдача свидетельства о заключении брака; непризнание значения фактического брака. В церковной практике считается единственно допустимым венчание только тех, чье супружество уже зарегистрировано по светскому закону. Второе сходство связано с ключевыми условиями законности брака: свобода воли, отсутствие близкого родства, моногамия, разнополость. Последние два обстоятельства весьма сближают взгляды современной Русской православной церкви и российского законодателя. Несмотря на требования разрешить многоженство – с учетом национальных традиций ряда регионов, принцип моногамии остается незыблемым, хотя соответствующие предложения групп депутатов и даже попытки косвенно внедрить многоженство в отдельных регионах делаются
. При этом позиционирование России как страны европейской отнюдь не ведет к допущению, юридическому признанию однополых союзов в качестве разновидности партнерств семейного типа (как это сделали законодатели большинства европейских стран) или даже брака (как это осуществлено, например, в Голландии)
. Влияние Церкви в этом вопросе, рассматривающей такие «союзы» как греховные, а соответствующие влечения – по меньшей мере в качестве болезненного недуга – весьма велико.
Сближение позиций церковного брачного права и светского семейного законодательства возвращает к жизни идею юридического признания акта венчания – в качестве альтернативы государственной регистрации
или этапа узаконения брачного союза
.
В то же время ввиду противоречивости церковных норм о браке, необходимости их актуализации и корректного взаимодействия с российским брачным законодательством они должны эволюционировать и по содержанию, и по форме
.
Интеллектуальное же взаимодействие между теологической теорией брака и цивилистическими его концепциями, активно начавшееся в конце XIX в., прерванное почти на 80 лет в XX в., возобновлено и развивается.
Влияние церкви (православной, магометанской и др.) расширяется и углубляется и на семейные отношения в целом – не на уровне прямого проникновения в содержание семейно-правовых норм, а в рамках правореализации, правоприменения (например, административного и судебного усмотрения) и даже правотворчества. Дай Бог сохранить в этом и внешнюю, и внутреннюю меру.
Глава 3
СЕМЕЙНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ:
ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
КАК БЛАГО
3.1. Принципы, или «скромная декларация независимости»
Как и в большинстве других законодательных комплексов, в семейно-правовом присутствуют нормы декларативного типа
, содержащие положения о целях и задачах, принципах отрасли (института) и иные заявления общерегулятивного и общеохранительного характера. Именно общие нормы (и дефинитивные, и декларативные), отмечает С. С. Алексеев, выражают «процесс интеграции правового материала»; выполняя функцию «цементирующего средства» в структуре права, они выявляют «юридическое своеобразие правовых общностей» и одновременно представляют собой реальные нормативные предписания регулятивного типа
. В ином социальном контексте, подчеркивает Г. В. Мальцев, «декларации могут иметь мало общего с целями, принципы – с дефинициями, все они – с нормами», но когда «законодатель включает их в нормативно-правовые акты, когда они проходят через этапы юридической институционализации», им придается характер властного требования о должном «к поведению людей, а также порядку вещей, устраиваемому посредством человеческих действий»