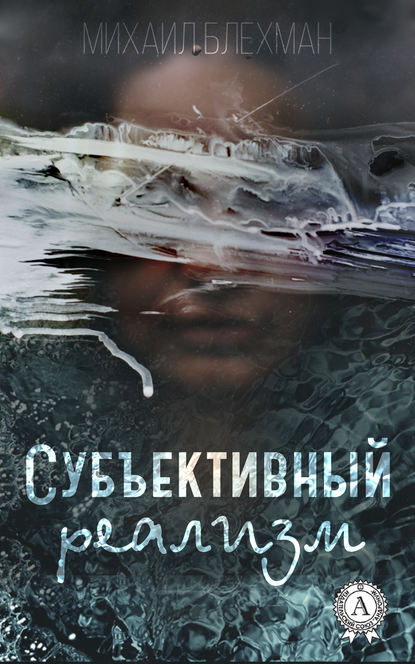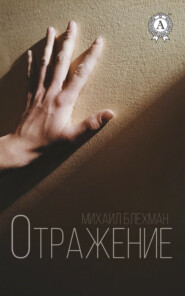По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Субъективный реализм
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Слышать это было приятно, потому что ведь довольно привычно.
– Главное – не привыкнуть, – посоветовала мне девочка. – Иначе ручка из разноцветной превратится в ту самую – обычную серую. В меня такую ни разу не бросили, но всё равно сразу бросается в глаза, где какая. У них нет ничего общего, одно название. А что может быть случайнее названия?
Девочка немало повидала на своём веку и, думаю, знает, о чём журчит. Ручка, как мне иногда говорят, действительно оказалась разноцветной, разве что названий этих цветов я не знаю. Впрочем, кто их знает? Да и есть ли они, если вдуматься, эти самые названия?
А если и есть, что может быть случайнее?
Точнее говоря, краски наверняка как-то называются, но совсем не теми словами, к которым мы привыкли, так что названий у них, скорее всего, и нет…
– Ты всегда спешишь, – проговорил я назидательным тоном, как мне и положено разговаривать с маленькой девочкой, потом улыбнулся ей и добавил:
– Спешишь, но, убегая, всё-таки остаёшься. У меня бы так не получилось.
Она кивнула, перепрыгивая через очередной порожек:
– Море не ждёт, приходится спешить и обходиться без отдыха.
Подумала и уточнила:
– Впрочем, ждёт, конечно. К счастью, ждёт… И ты тоже – вот и приходится спешить туда и не спешить отсюда.
Я вдохнул речной воздух и совсем не позавидовал ей – меня ведь тоже ждут.
Просто смотрел и видел: прохожие, случайные и неслучайные, останавливаются, долго молча выглядываются в неё, ищут что-то среди камешков и гребешков, прислушиваются к шлёпанью детских ног, спешащих за улетающими воздушными шариками цвета моих разноцветных чернил.
Уходят.
А отражения их лиц остаются в спешащей, убегающей от них воде, даже ночью, когда та бывает непрозрачной и в ней, казалось бы, ничего не способно отразиться – разве что остаться навсегда.
Они и остаются…
Я вздохнул:
– Слушай, как замечательно, что ты у меня тоже оптимистка. Быть оптимисткой, я думаю, ещё сложнее, чем, убегая к морю, оставаться со мной?
Она прыснула мне в лицо мокрыми смешинками:
– В меня такого надумывают, такого насматривают… Попробуй, обойдись без оптимизма. И всё надуманное приходится уносить подальше отсюда и поскорее утопить в море. Ты думаешь почему оно такое солёное?… Но это ещё что – другие на его месте прогоркли бы или вообще высохли – от всех случайно или намеренно обронённых в меня мыслей. А ты думал, ему, моему морю, всё нипочём? Думал, его выручает его нейтральный средний род… Да и так ли уж легко – быть нейтральным?
Не возражалось… Нелегко и не хочется возражать этой вечно убегающей и вечно остающейся со мной девчонке.
Да и зачем возражать? Как хорошо, что, убегая, она всегда – тут как тут, и с ней всегда можно поспорить, не возражая и не наталкиваясь на возражения, или перепрыгивая через них так же, как она беспрепятственно перепрыгивает через свои невысокие, неопасные порожки. Что может быть приятнее, чем спор без возражений и желания убедить?
Как это здорово: спор – без необходимости возразить.
Я снова присмотрелся к ней, внимательно сравнил с тем, что у меня получилось на просыхающих на солнце блокнотных листках. Вроде бы похоже. Вроде бы – слово в слово…
– Знаешь, – сказал я, – мне раньше казалось, что ты гораздо меньше. Думал, что ты коротышка, по правде говоря… Но вот получилось иначе.
Она заглянула в мой блокнот, перепрыгнула через порожек, словно влетая к себе или ко мне в дом, и весело прошелестела в ответ:
– Если бы ты знал, сколько мне лет! Я уж и не помню, в кого вымахала и когда вытянулась.
Как всегда тщетно, я попробовал разглядеть, откуда и куда она протянулась.
– Ага, теперь понял! – развеселилась она и принялась безобидно дразниться и пениться. – Вот тебе и маленькая! Где ты видел кого-нибудь длиннее?
Как недавно она перевела разговор на другую тему, так и я перевёл взгляд на подходящих, молча вглядывающихся – в неё ли, в себя ли, в уходящих от неё, в приходящих к ней снова.
– Знаешь, – пенно и ветрено вздохнула девочка, – пустые бутылки и окурки, да мало ли, – это всё так незначительно и безобидно, хоть и раздражает, конечно. От такой ерунды легко избавиться: им помогаю я, мне помогает море. Даже письма, ещё ненужные или, наоборот, уже необходимые, – разве это беда? Разве беда то, что ты выбросил, прежде чем ненадолго или навсегда уйти своей дорогой? Конечно, мне немного неприятно, перед тобой притворяться не буду, но им так нужно – ну и пусть. Мы с моим морем им поможем. А вот мысли, которые они в меня порой – да что уж там – так часто то роняют, то швыряют, то выбрасывают, – эти их обронённые, вышвырнутые мысли остаются – и во мне, и с ними, и с этой тяжестью мне не справиться, не унести, разве что донесу её до моего спасительного солёного моря, и морская вода с каждым разом станет ещё более солёной и ещё сильнее будет отдавать не речной и не морской горчинкой, чтобы моя осталась чистой и почти сладкой – для всех, кто приходит ко мне… Ты бы написал в своём блокноте о море. О том, что моим прохожим помогаю я, мне помогает моё море, а морю – кто же поможет?… Напиши. У тебя для этого есть всё необходимое: найденная мною для тебя цветная ручка, просохший под солнцем блокнот. И я, конечно.
И ты тоже, – подумал я. – Если бы не ты…
Шарик улетел – как всегда, рано или поздно, случается с любым воздушным шариком. Что это за шарик, если не может улететь? И девочка, снова убегая и снова оставаясь, добавила:
– У тебя действительно хорошая ручка. Значит, я могу надеяться, что ты запишешь всё слово в слово.
Дождь капнул мне в блокнот двумя точками, рядом с той, первой и, как я сначала думал, вроде бы последней. Теперь их было обнадёживающе три…
– Разноцветные, – улыбнулась девочка.
Её мама, покачав головой, сделала ребёнку замечание:
– Нехорошо. Нельзя подглядывать, нельзя заглядывать в чужие блокноты.
Кто-то из нас – девочка, я, или вовсю заморосивший дождь – кто-то из нас возразил:
– Да разве же он – чужой?
Шарик не торопился вырваться из рук девочки: вот выйдет солнце, тогда – совсем другое дело. А сейчас – что толку?
Я закрыл блокнот – не от них, конечно, от дождя. Щёлкнул зонтиком, ненадолго попрощался и пошёл домой, унося свой новый рассказ и оставляя его всем проходящим мимо.
Подсолнухи
Погадаем…
Черепаховая мостовая с послушной уверенностью вела нас к моему кафе, – пока ещё только моему.
Мы шли совсем не торопясь, почти черепашьим шагом, ведь моему кафе ещё только предстояло появиться. Пробиться жёлто-оранжевым светом – и тогда, возможно, оно так понравится, что его построят. И выложат черепаховую мостовую, чтобы в кафе хотелось прийти.
Прямо на мостовой поставят летние круглые столики. И позволят приносить с собой свечу с таким же оранжевым пламенем, и в этот поздний – или, наверно, ранний час за столиком будет не только светло, но и привычно – по крайней мере, нам с нею.
Она ревниво заметила – мне очень хотелось, чтобы ревниво – поэтому она ревниво заметила:
– Ты держишь свечу так бережно, как никогда не держал мою руку… Скорее всего, это потому, что ты считал, будто от моей руки нельзя обжечься, верно? Так вот: чтобы не обжечься, старайся думать не о свече, а о том, где её поставишь. О том, кому она предназначена. Твоя свеча ведь предназначена хотя бы кому-то?
Одной рукой я держал её за руку и всё равно опасался, как бы свеча ненароком не обожгла мне вторую. И старательно делал всё возможное, чтобы кафе появилось под этим открытым небом, поэтому и не ответил на её, как всегда, риторический вопрос.