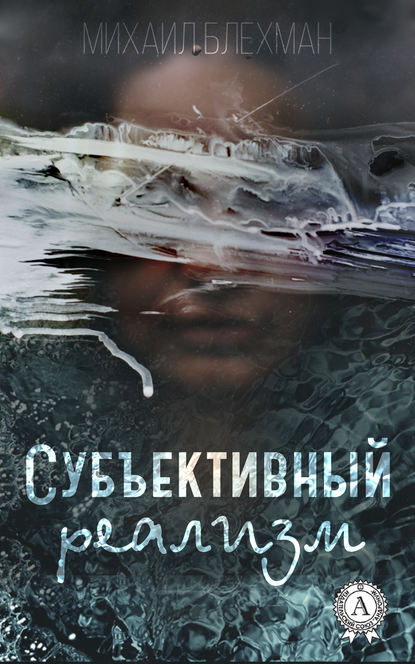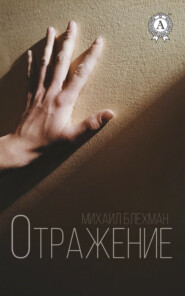По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Субъективный реализм
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Забыть о том, что лето совсем уже скоро – нет, ещё вечность впереди – упадёт когда-нибудь в ненужную мне, бесполезную осень… В осень, только тем и запоминающуюся, что чем скорее упадёшь в неё, тем скорее выберешься – новым летом, обновлённым.
Летом дни – разные, похожие и непохожие друг на друга, как один человек на другого, как другой на третьего. А после лета они, словно собравшиеся в толпу люди, становятся все на одно лицо.
– Как хорошо, что нужно уехать – потому, что можно вернуться. Что может быть лучше, чем возвращаться?
– Подумай хорошенько – и в конце концов наверняка поймёшь – что.
Там, куда я уйду, куда я уеду, лето не закончится: я встречу осень, вернувшись.
Здесь, куда я приеду, залив играет камешками, как на струнах.
– Или на клавишах?…
Ах да, как же я не понял: это страницы моей новой книги, ещё не написанной, ещё не пахнущей новой книгой.
– Значит, нас уже двое – а я-то думал, что кроме меня, к ним ещё никто не прикасался. Не знал, извини, пожалуйста.
– Первый приезд только увеличивает незнание Настоящее начало всегда начинается со второго. Второй раз – это и есть начало. Начало узнавания. Или конец незнания – смотря как посмотреть.
Ступенька кудахтнула старой, зажмурившейся курицей, и залив протянулся ко мне хотя и строгой, но зато спасительной рукой.
Море устало махнуло волной на пропахший водорослями залив. Заливу холодно даже сейчас, он согревает свои влажные пальцы – если прислушаться и помолчать, даже не шептать, а слушать – услышишь. Время от времени, так и не согревшись, он с раздражённым равнодушием выходит из берегов, и тогда вся – у неё столько незапоминающихся названий – вся заливная рыба послушными стаями несётся в заранее расставленные сети… Стае полагается быть послушной, на то она и стая… Уплывают только те – как же они называются? – которым удалось выйти из строя.
Птица, словно вырезанная из тонкого чёрного картона, бесцельно парит, заменяя жару, которой здесь нет поэтому. Дальше – маяк, похожий на серьёзного мальчишку в красной бейсболке. А у самых ног – гриб, отдалённо напоминающий оставшийся в стороне маяк.
Горы, свой густой шевелюрой похожие на студентов – вечных студентов – свысока смотрят на залив, иногда не замечая его сквозь туман, осторожно, чтобы не поскользнуться, спускающийся с них к воде. Вот он с трудом добрался до залива, дотронулся до воды и, повисев над ней, благополучно, безобидно тонет – до следующего раза.
Не хочется уходить, пока не найду в заливной воде облепленную водорослями бутылку.
Нет, не так. Хочется уйти, потому что в бутылке может не оказаться записки. Или потому что мне не удастся разобрать, что там написано.
Неподалёку от залива притихло Овечье озерцо…
– Не так уж и неподалёку. Неужели мне не положено быть самим по себе? И пожалуйста: обойдёмся без снисходительных и уменьшительных суффиксов, плыви себе, и всё, договорились?
– Какое же ты Овечье? – выплеснулось не так чтобы издалека. – У тебя нет ни единого, даже самого завалящего, барашка, не то что у меня, хотя я так не называюсь.
– Вот именно: какое же ты Овечье? Вода в тебе не белая, тем более не бирюзовая, – а красноватая, пивная – вот руки покраснели, словно подгорели на брызжущем здоровьем солнце. Хотя на солнце они совсем даже не красные.
– Побудь тут с моё – наверняка поймёшь. А словами разве объяснишь?
Я знаю, что можно объяснить не только словами. Как жаль, что я иначе не умею. Да и словами умею не всегда. Не от меня это зависит.
– Не оправдывайся. Плыви и не думай о словах. Они приходят именно тогда, когда о них не думаешь.
Я знаю. Когда думаешь – они уходят. Во всяком случае, когда думаешь под треск камина…
Тучи тёмно-серой шляпой надвинулись на насупленные брови тропинок, ведущих с гор и берегов к заливу. Дождь нежданно-негаданно свалился на голову, словно перезрелое яблоко упало с яблони: хочешь – не хочешь, а сделаешь какое-нибудь вечное открытие, такое простое, словно открыл дверь, выходящую на залив. Например, то, что заливный воздух насыщен привкусом подзабытых детских пряников.
А может быть, я придумаю – сам для себя – новые имена, – и дам их цветам, давно выросшим из своих заношенных, затасканных, занюханных цветочных названий.
Дождь уходит, и с ленивой насмешливостью меня окутывает, укутывает – чтобы снова не замёрз? – не боящийся ничего, кроме залива, надоедливый и ненужный, как заброшенный маяк, зной.
– Приходи вечером – увидишь, что я вполне ещё сгожусь на дело. Это днём я отбрасываю тень, зато ночью – совсем наоборот. Придёшь?
Здесь не замерзается. Вот и дождь ушёл.
Зато залив – залив никуда не уйдёт, ни за что никуда не денется. Куда ему подеваться – от самого себя, а главное – от меня? Разве что привычно обидится на что-то, отступит от берега – вместе со спустившимся с Луны с отливом, – но вскоре передумает, забудет и о пустяшной обиде, и о надоевшем отливе, новым приливом прильёт к берегу, словно краска к щекам, а значит, снова придёт ко мне.
– Придёшь?
Не уйдёт, скорее уж я уйду. Скорее…
Там, на той стороне – зеркальное, как устоявшаяся вода, отражение моего нынешнего берега, непохожее на противоположный, как обычно происходит с зеркалом. Но и так же похожее. Не поймёшь, где оригинал, где – всего лишь отражение…
– Всего лишь?
– Впрочем, кто и когда бывал вполне доволен своим зеркальным отражением?
Берега всматриваются друг в друга, словно оригинал в отражение, или отражение – в оригинал, – и длится это уже так долго, что они и не помнят, наверное, кто из них кто. Думаю, если бы я так же долго смотрелся в зеркало, с нами бы произошло то же самое.
Заливу они необходимы не меньше, чем один другому. Без берегов от безбрежности залива не осталось бы и следа на заиленном песке. Отними берега у залива, и он тут же превратится в бесформенную, растёкшуюся, расплывшуюся кляксу на этой старой карте из серьёзной, нешуточной игры… Из игры с совсем неигровыми правилами.
Сосед по-прежнему растапливает свой камин. И огонь похрустывает не деревяшками, не углями, а, кажется, страницами не сумевшей выйти в свет книги.
Выйдет? Сгорит?
– Нет, конечно. Каждая страница пропитана водой залива, поэтому она никогда не сгорит, сколько бы ни старался сосед, от которого тебе никуда не деться, как моим берегам друг от друга, а мне – от них.
– Можно не умалять? И Овечьего озера – тоже.
Спасибо! Я хорошенько подумал – и, кажется, понял, что.
Чёрное, серое, белое
Короткий рассказ – фрагменты большой повести
Мама. Помню!
Мы тогда жили в Козельщине. Козельщина для меня – это как Касриловка для Шолом-Алейхема, только Козельщина, в отличие от Касриловки, есть на самом деле, и она не еврейское местечко, а украинское село. Ну, и я, понятное дело, не Шолом-Алейхем.
Мы в Козельщине были, наверно, единственными евреями. Маму из Харькова в Козельщину отправили по распределению работать адвокатом, а отца – врачом. А я был с няней.
Маму очень уважали. Иногда её возили на бричке. Она была заместителем главного адвоката всей Козельщины, и однажды взяла меня с собой в суд в Полтаву. А ведь ей было всего лишь 25 лет.
В Козельщине можно было целыми днями играть в Чапаева, только для этого нужно было надеть пальто, как бурку. И можно было прятаться в малиновом кусте. Когда тебе три или четыре года, малины хочется сильнее, чем когда тебе пятьдесят, хотя и в пятьдесят её тоже хочется, особенно если к ней пристрастился, когда тебе было три или четыре года.
Однажды я просидел в малиновом кусте с утра до вечера и не откликался на нянин зов. А когда мама вернулась домой с работы и я вылез из куста, у меня от малины высыпала сыпь по всему животу. Говорят, если чего-нибудь переесться, то потом этого никогда больше не захочется. Наверно, имеют в виду не малину. Сколько я ни объедался малиной, так до сих пор не переелся.