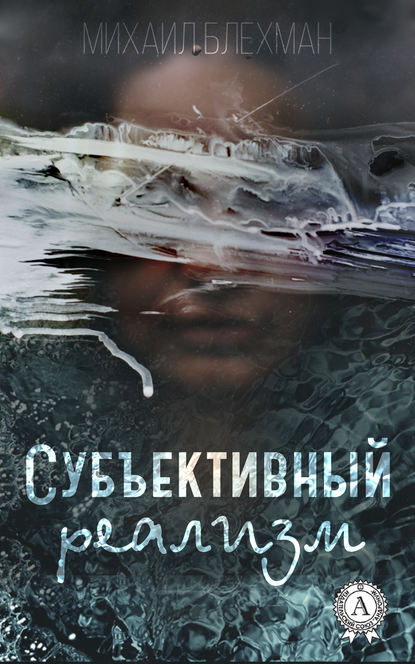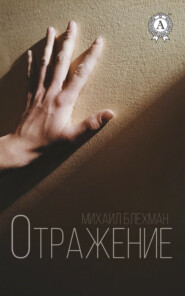По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Субъективный реализм
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не удивился. Спросил из вежливости:
– Зачем это вы – ушами?
Я покраснел.
– Объясните, пожалуйста.
Улыбнулся по-доброму.
– Ничего сложного. Даём испытуемому возможность выбирать. Ставим, так сказать, перед дилеммой. Дилеммы у нас в ассортименте. Средство испытанное. Пытаемый может выбрать. Или заказать все оптом – но это уже признак особой душевной утончённости.
– А какие дилеммы? – пугаюсь.
– А любые, – успокаивает. – Семья или школа. Знание или сила. Наука или техника. Наука же или жизнь. Та женщина или эта. Или мужчина.
Муха заняла своё насиженное место на портрете.
Муху можно в принципе прогнать. Мысль, даже если она меньше мухи, не прогоняется. И что интересно: чем больнее, тем настырнее.
Я пропищал:
– Кто вам разрешил разрешать человеку выбирать?
– А кто вам разрешил всё время выбирать? И главное – до конца так и не сделать выбор?
Я вылетел в трубу. Или вышел в дверь – не помню.
Шёл куда глаза глядят – так долго, что они устали от ответственности.
Хотелось признаться. Явиться с повинной. Взять на себя. Донести на себя же. Выдать себя же с головой. Сложить голову. Посыпать её пеплом. Преклонить колени. Принять как должное.
Этого всего хотелось страстно и сразу.
Только бы не выбирать.
Несите вашу смолу. Готовьте розги. Точите когти и зубы. Попытка не пытка. Долго не выдержу – подпишу и отмучаюсь. Всего-то-навсего: стакан смолы да дюжина батогов – раскаюсь, забудусь. Хочется рабства – сладкого, вольного, добровольного.
Увы. Побывавший в пыточной лишён привилегии батога.
Он бредёт с опущенным вместо забрала носом и – выбирает. Он питается собственными сомнениями, которых уже не переваривает. Видит дорожные и электрические столбы в форме вопросительных знаков, дома – в форме многоточий…
Он не надеется когда-нибудь сделать выбор – и потому постоянно делает его. И потому не сделает никогда.
Ибо для делающего выбор – выбора нет.
И он это знает – иначе не делал бы. Иначе не соорудил бы себе вечную пыточную со всеми удобствами и видом на предметы выбора.
Для выбирающего – выбора нет.
Вот и всё.
Монета
Я снова сел за столик в дальнем углу. Угол действительно был дальним, там я никому не мешал не слушать мою песню. Песен я не пишу, но эта была моей. Женщина в туфлях цвета моего любимого вина пела, кажется, о том, что давно хочет уехать в свою деревню, – хочет, но не может. Я уже знал, почему: этого не знаешь только в самом начале, а потом в конце концов понимаешь. Если для понимания должно пройти долгое, отведённое на песню время, то песня – твоя.
Туфли не были изувечены о дорогу, а ведь в деревню – любую, тут между нею и мной нет противоречий, – в деревню ведёт одна-единственная с позволения сказать дорога, вся из выбоин и душной пыли. Красный цвет, растворённый в пыли, – уже не красный, ещё не серый, по сути – никакой.
Быть никаким – судьба того, кто никак не решится отправиться в деревню: то ли боится не дойти по запылённой, разбитой дороге, то ли, намного печальнее, – дойти и не узнать свою деревню. Вернее – уже не свою.
У каждого в самом начале есть деревня. Со временем, идущим куда угодно, только не навстречу, тебе кажется, что да, вот он, город, а деревни никакой вроде бы никогда и не было. Потом случается то одно, то другое, и об этом не думаешь, и забываешь – время это умеет – всё, что можно и что, казалось бы, нельзя забыть.
Но ближе к концу песни всё же оказывается, что деревня есть – была, по крайней мере. Ты надеваешь единственные, лучшие туфли цвета недопитого вина и отправляешься в путь. Идёшь по разбитой дороге, а деревня всё не приближается, и есть ли она, и нет ли её, понимаешь всё меньше, и боишься не дойти, а дойти – боишься ещё больше…
Женщина допела мою песню, я допил вино цвета её туфель и пошёл обратно, в город.
Все, кто уходил, бросали ей по монете в копилку. Я не стал бросать свою монету, дал её женщине. Дал бы две, но у меня такая была одна. Ни во что не конвертируемая, поэтому настоящая. Стоящая, звонкая, уже старинная, отчеканенная в моей деревне, до которой мне не добраться, даже если в течение всей песни идти по запылённой дороге, в башмаках цвета вот уже, кажется, допитого вина.
– Нет-нет, – крикнула мне женщина вдогонку, – ваш бокал ещё полон.
И снова запела мою песню.
Непрерывность
Моему лучшему другу Хулио, с которым мы незнакомы.
Автор.
Никак не удавалось понять, куда ушла эта женщина. Я сновал по комнате, сидел на любимом диване и на любимом же балконе, смотрел на уток – и всё это часами и днями, – но ответа ниоткуда не было.
Итак, она спешила и даже не завязала волосы. Впрочем, с распущенными волосами она выглядела ещё лучше. Они попрощались у входа в маленький домик в горах, который называли хижиной, и она быстро пошла по тропинке на север. Всё ясно и логично. Но что стало с ней потом? Это необходимо понять, чтобы рассказ закончился.
Спрошу у лучшего друга, обсудим это с ним. Тем более что как раз сейчас он пишет о, как он думает, первом по важности персонаже нашего с ним рассказа – мужчине с поцарапанной щекой, возлюбленном эффектной брюнетки с распущенными волосами, быстро уходящей в сторону севера по только ей известной тропинке.
– Привет, Хулио! – позвонил я ему, как всегда – не побоюсь ложной нескромности – кстати.
Он сидел за столом у окна, выходящего в сад, и раздумывал о том, куда пойдёт мужчина с поцарапанной щекой, на юг от маленького домика в горах, который он и его красивая подруга называли хижиной. Окно выходило в парк. За этим столом было легко и писать, и читать, к тому же бархатное кресло было удобным, хотя зелёный цвет меня слегка раздражал. Сигареты лежали под рукой, и рядом была эта серебряная чашечка с серебряной трубочкой, названия которых я постоянно забывал, но он уже перестал обижаться на меня за мою плохую память. Развитие сюжета и персонажи постепенно становились понятны – во всяком случае, это касалось мужчины с царапиной на щеке. Совершенно неожиданно зазвонил телефон. Звонил я: мне было необходимо посоветоваться с ним по поводу не самого важного, как он считал, персонажа. Вот тут-то он из ошибался: персонаж был далеко не второстепенным.
– Привет, Мигель! – приветливо ответил Хулио, заранее зная, кто звонит. – Ты, как всегда, вовремя. Без тебя этот рассказ у меня не получится.
– Вот что значит хороший читатель! – скромно отозвался я о себе.
– Вот что значит хороший автор! – не менее скромно отозвался о себе он.
Нам было приятно, что мы не одиноки в своих оценках.
– Как вообще дела, Хулио? – спросил я, зная, как наши с ним дела и понимая, что он знает причину звонка и, следовательно, понимает его неотложность. Но сразу переходить к делу не хотелось – ни мне, ни ему.
– Ты помнишь, что должен не забыть посмотреть по телевизору чемпионат мира? Ваши выиграют.