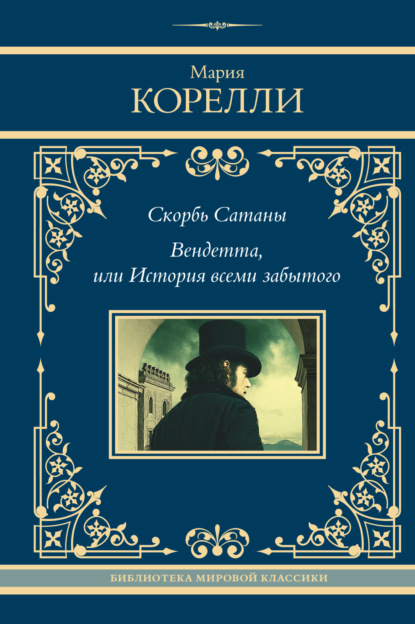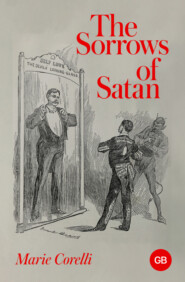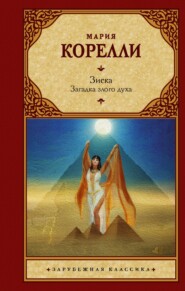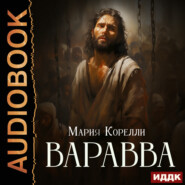По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Скорбь Сатаны. Вендетта, или История всеми забытого
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Так. Но, живя в Уиллоусмирском замке, вы вряд ли сможете избежать встречи с нею.
– Нет необходимости знакомиться со всеми, кто живет по соседству, – заметил я надменно.
Лючио расхохотался.
– Как хорошо вы играете роль богача, Джеффри! – сказал он. – Для того, кто еще совсем недавно обитал на задворках литературного мира, не имея даже соверена, вы великолепно подражаете манерам нашего времени! Больше всего меня изумляют люди, кичащиеся своим богатством перед своими ближними, которые ведут себя так, будто смогли подкупить смерть и за деньги приобрести расположение Творца! Какая бесподобная дерзость! Вот я, хотя и колоссально богат, так странно устроен, что не могу носить банковские билеты на своем лице. Ум имеет для меня значение не меньшее, чем золото, и иногда, знаете ли, в моих путешествиях вокруг света я удостаивался быть принятым за совершенного бедняка! Вам же никогда этого не удастся. Вы богаты и выглядите, как богач.
– А вы, – вдруг прервал я его с горячностью, – знаете ли, как выглядите вы? Вы утверждаете, что богатство написано на моем лице. Знаете ли вы, что выражает каждый ваш взгляд и жест?
– Не имею понятия! – ответил он, улыбаясь.
– Презрение ко всем нам! Неимоверное презрение. Даже ко мне, кого вы называете своим другом. Я говорю вам правду, Лючио, бывают минуты, когда, несмотря на нашу близость, я чувствую, что вы презираете меня. Вы необыкновенная личность, одаренная необыкновенными талантами, однако вы не должны ожидать от всех людей такого же самообладания и равнодушия к человеческим страстям, как у вас самого.
Он бросил на меня быстрый взгляд.
– Ожидать! – повторил он. – Мой друг, я вообще ничего не жду от людей. Напротив, они, по крайней мере те, кого я знаю, ожидают всего от меня и, как правило, это получают. Что же касается моего «презрения» к вам, разве я не говорил, что восхищаюсь вами? Серьезно! Положительно есть нечто достойное изумления в блистательном прогрессе вашей славы и быстром общественном успехе.
– Моя слава! – повторил я с горечью. – Каким способом я достиг ее? Стоит ли она чего-нибудь?
– Не в том дело, – повторил он с легкой улыбкой. – Как, должно быть, неприятны эти подагрические уколы совести, Джеффри! В наше время слава, в сущности, не многого стоит, потому что это не классическая слава, сильная в своем спокойном достоинстве, как в былые времена, – теперь это лишь шумливая, крикливая известность. Но ваша слава, такая, как она есть, вполне законна с коммерческой точки зрения, с которой теперь все смотрят на все. Вы должны знать, что в наше время никто ничего не делает бескорыстно: каким бы чистым ни казалось на земле доброе дело, в его основании лежит эгоизм. Стоит признать этот факт, и вы увидите, что ничто не может быть прямее и честнее того способа, каким вы получили свою славу. Вы не купили неподкупную британскую прессу. Вы не могли этого сделать: это невозможно, потому что она чиста и гордится своими высокими принципами. Ни одна английская газета не возьмет чек за то, чтобы разместить заметку или статью, ни одна! – Его глаза весело сверкали, и он продолжал: – Нет, только иностранная пресса испорчена: так говорит британская пресса. Джон Булль с ужасом взирает на журналистов, которые, доведенные до крайней нищеты, берутся кого-нибудь или что-нибудь бранить или превозносить ради дополнительного заработка. Благодарение Богу, он не имеет таких журналистов! В его прессе все люди – сама честность и прямота, и они охотнее согласятся существовать на один фунт стерлингов в неделю, нежели взять десять за случайную работу, «чтобы сделать одолжение приятелю». Знаете ли, Джеффри, кто будут первыми святыми, которые в Судный день поднимутся на небо при звуке труб?
Я покачал головой, досадуя и одновременно забавляясь.
– Все английские (не иностранные) издатели и журналисты! – сказал Лючио с благочестивым видом. – А почему? Потому что они так добродетельны, так справедливы, так бескорыстны! Их иностранные собратья будут, конечно, осуждены на вечную пляску с дьяволами, а британские пойдут по золотым улицам с возгласом «Аллилуйя!». Уверяю вас, что я смотрю на британскую журналистику как на благороднейший пример неподкупности, уступающий лишь духовенству в трех евангельских добродетелях – добровольной бедности, целомудрии и послушании!
В его глазах сверкала такая насмешка, что их блеск казался отражением стального клинка.
– Утешьтесь, Джеффри! – продолжал он. – Ваша слава достигнута честно. Вы лишь сблизились через меня с одним критиком, который пишет приблизительно в двадцати газетах и имеет влияние на других, пишущих в других двадцати; этот критик, будучи натурой благородной (все критики – благородные натуры), имеет «общество» для вспоможения нуждающимся авторам (весьма благородная цель), и для этого доброго дела я, движимый исключительно человеколюбием, подписал чек на пятьсот фунтов стерлингов. Тронутый моим великодушием (особенно тем, что я не спросил о судьбе пятисот фунтов), Макуин сделал мне «одолжение» в маленьком деле. Издатели газет, где он пишет, считают его умным и талантливым человеком; они ничего не знают ни о благотворительности, ни о чеке, да им и нет необходимости это знать. Все это, в сущности, весьма разумная деловая система; только склонные терзать себя аналитики, такие как вы, станут думать о подобном вздоре.
– Если Макуину действительно понравилась моя книга… – начал я.
– Почему же нет? Я считаю его вполне искренним и уважаемым человеком. Я думаю, он всегда говорит и пишет согласно своим убеждениям. Я уверен, если б он нашел вашу работу не заслуживающей внимания, он отослал бы мне обратно чек на пятьсот фунтов стерлингов, разорванный в порыве благородного негодования.
И, откинувшись на спинку стула, он хохотал, пока слезы не выступили на его глазах.
Но я не мог смеяться; я был слишком уставшим и угнетенным, и тяжелое чувство отчаяния наполняло мое сердце; я сознавал, что надежда, ободрявшая меня в дни бедности, надежда достичь настоящей славы покинула меня. Слава имеет ту особенность, что ее нельзя добыть ни деньгами, ни через влияние.
Ее не могли дать хвалебные отзывы прессы. Мэвис Клер, зарабатывающая себе на хлеб, имела ее; я, с моими миллионами, – нет. Глупец, я надеялся купить ее; мне еще только предстояло узнать, что все лучшее, величайшее, честнейшее и достойнейшее в жизни не имеет рыночной цены и дары богов не продаются.
Спустя недели две после издания моей книги Лючио и я поехали представляться ко двору. Это было довольно блестящее зрелище, но, без сомнения, самой блестящей личностью там был Риманец. Я не мог оторвать глаз от его высокой царственной фигуры, в придворном черном бархатном платье со стальными украшениями; хоть я привык к его красоте, но никогда не видал ее в таком блеске. Я был вполне доволен своей внешностью в соответствующем случаю костюме, но при виде его мое самолюбие испытало глубокий шок, так как я осознал, что на моем фоне красота и привлекательность моего друга только еще больше выигрывали. Но я ничуть ему не завидовал, а, напротив, открыто выражал свое восхищение. Он же, казалось, забавлялся.
– Мой милый мальчик, все это низкопоклонство, – сказал он. – Все притворство и обман. Взгляните на это, – и он вынул из ножен легкую придворную шпагу. – Куда, в сущности, годится это непрочное лезвие?! Это только эмблема умершего рыцарства; в старые времена, если человек оскорблял вас или вашу любимую женщину, блестящий кончик закаленной толедской стали мог ударить – так! – и он принял фехтовальную позу с неподражаемой грацией и легкостью. – И вы ловко прокалывали негодяю ребро или руку, давая ему повод вспоминать вас. Но теперь, – он вложил шпагу в ножны, – люди носят подобные игрушки как меланхолический знак, показывающий, какими отважными смельчаками они были когда-то и какими низкими трусами стали теперь! Не способные более защитить себя сами, они кричат: «Полиция! Полиция!» – при малейшей угрозе их ничтожным особам. Идем, время ехать, Джеффри! Пойдем преклонить наши головы пред другой человеческой единицей, совершенно такой же, как мы, и тем самым выступим против Смерти и Всевышнего, которые провозгласили всех людей равными друг другу!
Мы сели в экипаж и скоро были на пути к Сент-Джеймсскому дворцу.
– Его королевское высочество принц Уэльский не совсем Творец Вселенной, – сказал вдруг Лючио, смотря в окно, когда мы подъезжали к линии солдат внешней охраны.
– Конечно же, нет! – засмеялся я. – Почему вы это сказали?
– Потому что вокруг него столько суеты, как если б он был действительно больше, чем Творец. Творцу не уделяют и половины того внимания, какое оказывают Альберту Эдуарду. Мы никогда не заботимся о том, чтобы одеться каким-то особым образом, когда отправляемся туда, где предполагается присутствие Господа, и довольствуемся лишь чистотой помыслов.
– Но ведь Бога нет, а Альберт Эдуард есть, – равнодушно произнес я.
Он улыбнулся, и в темной глубине его глаз мелькнуло презрение.
– Вы так считаете? – спросил он. – Что ж, ваше мнение не оригинально, многие высокодуховные люди разделяют его. У людей, которые не готовятся к присутствию Господа, есть по крайней мере одно хорошее оправдание: приходя в церковь, называемую «домом Господним», они не находят там Бога – они видят только священника, а это в некотором роде разочарование.
Я не успел ответить, так как экипаж остановился и мы вошли во дворец. Благодаря содействию высшего придворного должностного лица, которое представляло нас, мы получили хорошие места среди самых знатных гостей, и во время ожидания я с интересом изучал их лица и манеры. Некоторые заметно нервничали; двое-трое имели такой вид, как будто сделали честь его королевскому высочеству своим присутствием на этой церемонии. Несколько господ, очевидно, надели свое придворное платье впопыхах, потому что забыли снять кусочки тонкой бумаги, которой портной обернул стальные и золоченые пуговицы, чтобы они не потускнели. Заметив это, к счастью, не слишком поздно, они теперь занимались тем, что срывали эти бумажки и бросали их на пол. Это выглядело по меньшей мере неопрятно, делая их смешными и лишая достоинства!
Все присутствовавшие невольно поворачивались к Лючио: его импозантная внешность привлекала всеобщее внимание. Когда наконец мы вошли в Тронный зал и заняли свои места в линии, я постарался, чтобы мой блистательный товарищ оказался передо мной, поскольку мне очень хотелось увидеть, какой эффект произведет его наружность на королевскую особу. С моего места я отлично видел принца Уэльского. Он представлял собой довольно величественную фигуру в полной парадной форме, со всевозможными орденами, сверкающими на его широкой груди, и замеченное многими его удивительное сходство с Генрихом VIII поразило меня сильнее, чем я ожидал. Хотя его лицо выражало больше благодушия, чем надменные черты «своенравного короля», на этот раз тень меланхолии, даже суровости омрачала его чело, придавая твердость его обыкновенно подвижным чертам, – тень, казавшаяся мне усталостью с примесью сожаления; взгляд человека неудовлетворенного, однако покорившегося, с утраченными целями и противоречивыми желаниями. Несколько других членов королевской фамилии окружали его; большинство из них были или казались обычными солдафонами в военных мундирах, которые при прохождении каждого гостя наклоняли головы с автоматической четкостью, не проявляя ни удовольствия, ни интереса, ни расположения. Но наследник величайшей империи мира всем своим видом выражал непринужденную и любезную приветливость. Окруженный (чего трудно избежать в его положении) толпой льстецов, паразитов, доносчиков и лицемерных эгоистов, которые никогда не рискнут для него своей жизнью, если только не смогут извлечь из этого чего-либо для самоудовлетворения, он произвел на меня впечатление скрытной, но от этого ничуть не менее непоколебимой силы.
Я даже теперь не могу объяснить себе необыкновенное волнение, охватившее меня, когда наступил наш черед представляться; я видел, как мой друг двинулся вперед, и услышал, как лорд Чемберлен назвал его имя: «Князь Лючио Риманец», а затем – да, затем мне показалось, что все движение в блестящей зале вдруг прекратилось. Все глаза были устремлены на высокую фигуру и благородное лицо Риманца, когда он кланялся с таким совершенным изяществом и грацией, что все другие поклоны в сравнении с его казались неуклюжими. Один момент он стоял неподвижно перед королевским троном, глядя на принца, как если б хотел произвести на него впечатление своим присутствием, – и на широкий поток солнечного сияния, заливавшего залу во время церемонии, внезапно легла тень мимолетного облака. Впечатление мрака и безмолвия, казалось, наполнило атмосферу холодом, и странная магнетическая сила заставила все взгляды устремиться на Риманца; и ни один человек не шевельнулся. Это напряженное затишье было коротким. Принц Уэльский едва заметно вздрогнул и посмотрел на великолепную фигуру перед собой с выражением острого любопытства, почти готовый разорвать ледяные узы этикета и заговорить; затем, сдержав себя с очевидным усилием, он с обычным достоинством ответил на глубокий поклон Лючио, после чего мой друг прошел, слегка улыбаясь. Я был следующим, но, естественно, не произвел особого впечатления; только кто-то среди младших членов королевской фамилии, услышав имя «Джеффри Темпест», тотчас прошептал магические слова: «Пять миллионов!» – слова, которые достигли моих ушей и наполнили меня обычным усталым презрением, сделавшимся моей хронической болезнью.
Скоро мы уже выходили из дворца, и, пока мы ожидали нашу карету, я дотронулся до рукава Риманца.
– Вы произвели настоящую сенсацию, Лючио!
– Неужели? – засмеялся он. – Вы льстите мне, Джеффри.
– Нисколько! Отчего вы стояли так долго перед троном?
– Мне так хотелось, – проговорил он равнодушно. – И кроме того, я хотел дать возможность его королевскому высочеству меня запомнить.
– Но, по-видимому, он узнал вас. Вы его встречали раньше?
Его глаза сверкнули.
– Часто! Но до сих пор я ни разу не являлся публично в Сент-Джеймсский дворец. Придворный костюм преображает большинство людей, и я сомневаюсь, да, я весьма сомневаюсь, что даже с его всем известной памятью на лица принц действительно узнал во мне того, кто я на самом деле!
XVII
Через неделю или дней десять после приема у принца Уэльского между мной и Сибиллой Элтон произошла странная сцена, о которой я собираюсь рассказать, – сцена, оставившая глубокий след в моей душе, которая могла бы предупредить меня о нависших надо мной грозовых тучах, если б мое чрезмерное самомнение не мешало мне увидеть предзнаменование, предвещающее несчастие. Приехав однажды вечером к Элтонам и поднявшись в гостиную, как вошло у меня в привычку, без доклада и церемонии, я нашел там Дайану Чесни одну и в слезах.
– В чем дело? – воскликнул я шутливым тоном, так как состоял в очень дружеских и фамильярных отношениях с маленькой американкой. – Вы плачете! Не разорился ли наш милый железнодорожный папа?
Она засмеялась как-то истерически.
– Нет пока, не сомневайтесь! – И она подняла на меня свои влажные, но тем не менее сверкавшие озорством глаза. – Насколько я знаю, с капиталом все обстоит благополучно. Просто у меня произошла стычка – да, стычка с Сибиллой.
– С Сибиллой?
– Ну да, – и она поставила кончик маленького вышитого башмачка на скамеечку и критически посмотрела на него. – Сегодня домашний прием у Кэтсап, я приглашена, и Сибилла тоже; мисс Шарлотта измучилась, ухаживая за графиней, и, конечно, я была уверена, что Сибилла поедет. Хорошо. Она ни слова не произнесла об этом до обеда, а потом поинтересовалась у меня, к какому часу мне нужен экипаж. Я спросила: «Разве вы не едете?», а она посмотрела на меня в своей вызывающей манере – ну, вы знаете! – и ответила: «Вы думаете, это возможно?» Я вспыхнула и сказала, что, конечно, это возможно. Она опять вызывающе посмотрела на меня и спросила: «К Кэтсап? С вами?» Согласитесь, это была явная дерзость, и я не могла сдержать себя и сказала: «Хотя вы и дочь графа, но вы не должны задирать нос перед миссис Кэтсап. Она не так дурна – я не говорю о ее деньгах, – но она действительно хороший человек и имеет доброе сердце, гораздо добрее, чем у вас. Миссис Кэтсап никогда бы так со мной не обращалась!» Я задыхалась, я могла бы наговорить дерзостей, если б была уверена, что лакей не подслушивает за дверью. Сибилла же только улыбнулась своей ледяной улыбкой и спросила: «Может быть, вы предпочли бы жить с миссис Кэтсап?» Конечно же, я сказала «нет», ничто не заставит меня жить с миссис Кэтсап. И тогда она сказала: «Мисс Чесни, вы платите моему отцу за протекцию, и за его имя, и за положение в английском обществе, но компания его дочери не была включена в договор. Я пыталась, насколько это было возможно, дать вам понять, что не желаю показываться в обществе с вами, – не потому, что не люблю вас, нет, но просто потому, чтоб не говорили, что я ваша платная компаньонка. Вы заставляете меня говорить резко, и мне очень жаль, если я вас оскорбила. Что касается миссис Кэтсап, ее я видела только один раз и нахожу очень вульгарной и дурно воспитанной. Притом я не люблю общества торговцев!» И с этими словами она встала и уплыла, и я слышала, что она приказала подать для меня экипаж к десяти часам. Его сейчас подадут, а у меня посмотрите, какие красные глаза! Я знаю, что старая Кэтсап составила свое состояние на торговле лаком, но чем же лак хуже чего-нибудь другого? Ну… вот и все, мистер Темпест, и… вы можете передать Сибилле мои слова, если хотите, – я знаю, вы влюблены в нее!
Ее быстрая речь, почти без передышки, привела меня в замешательство.
– В самом деле, мисс Чесни… – начал я церемонно.
– О да, мисс Чесни, мисс Чесни, все это прекрасно, – повторила она нетерпеливо, потянувшись к своей роскошной вечерней накидке, которую я машинально ей подал, а она так же машинально приняла. – Я всего лишь молодая девушка, и я не виновата, что мой отец – вульгарный человек, желающий перед своей смертью увидеть меня замужем за английским аристократом. Это его желание, а не мое. На мой же взгляд, английские аристократы – не слишком надежная публика. Но я могла бы полюбить Сибиллу, если б она позволила, но она не хочет. Она живет, как глыба льда, и никого не любит. Знаете ли, она и вас не любит. Я пожелала б ей быть более человечной!