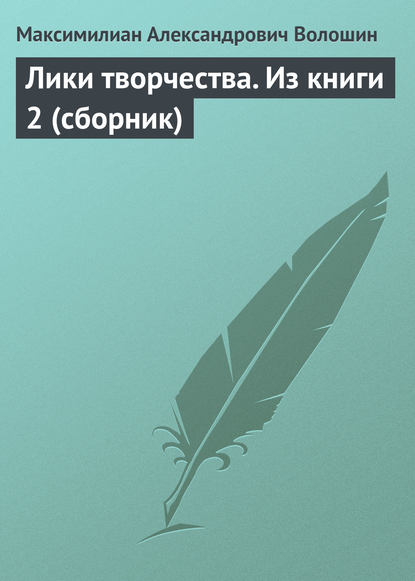По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лики творчества. Из книги 2 (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рядом с этими мучениками новой живописи, с этими «побежденными, чьи сердца переполнены пеплом печали», стоит героическая фигура завоевателя империй – Гогена. Он один из могучего племени легендарных полубогов и героев. Если он не царь современной живописи, то он «царский сын». (К нему так идет это имя, которое граф Гобино употреблял для обозначения сверхчеловека. Этот блестящий и парадоксальный мыслитель, имевший такое влияние на Ницше, воспитал свой ум в Персии у древнейших горнов восточной мудрости, и это имя, переносящее в страны «тысячи одной ночи», звучало для него проще, человечнее и горделивее, чем отвлеченное понятие «сверхчеловека». Царский сын на самом деле может быть сыном купца или сыном крестьянина, но все же он царский сын, потому что он молод, предприимчив, силен, свободен, жаждет завоевания новых царств).
Гоген был царским сыном.
В жилах Гогена текла кровь, сгустевшая под перуанским солнцем, и в сердце его вспыхивали древние мечты о золоте и пурпуре. Ему должны были грезиться походы Кортэса, его душе должно было узывно говорить то мгновение, когда Пизарро, дойдя до Тихого океана, по пояс вошел в воду со знаменем в руках и объявил океан под властью святой Марии Пречистой.
Его жажду золота не могли удовлетворить желтые подсолнечники Ван-Гога на бирюзовом фоне, а его тоску по пурпуру и блеску – красные яблоки и фаянсовые тарелки Сезанна на голубой скатерти.
Его кровь задыхалась среди этих импрессионистических мелочей, среди этих искусственных трамплинов света, в которых Ван-Гог и Сезанн искали философского камня живописи.
Гогену не нужно было философского камня. Он любил простое, реальное, конкретное, человеческое. Он любил вещество и его формы, а не идею. Он искал вовсе не новой живописи, а новых ликов жизни. И когда он нашел их, полюбил и понял, тогда он мимоходом создал и новую живопись.
Глубокая истина заключается в том, что искусство в противоположность философскому мышлению изображает лишь индивидуальное в жаждет лишь исключительного. Оно не обобщает явления, оно индивидуализирует их.
На дверях лабиринта предательски перепутаны надписи: те, кто прямо идут на поиски отвлеченных идей, принципов и систем, те попадают в липкие сети маленьких вещей, серых и будничных, тарелок и яблок Сезанна, чертежей Учелло и копченых селедок Ван-Гога; те же, кто, не заботясь об общем, влюбляются в вещи и готовы всем своим бессмертием пожертвовать за преходящие формы этого мира, те находят играя философский камень, превращающий в золото все, к чему ни прикасаются они.
Гоген ушел из Европы в поисках не за живописью, а за новой жизнью. Он нашел ее в Океании, там, где самое старое земное человечество, человечество трижды доисторической Лемурии, сохранило наивную свежесть первой юности Земли.
Он оставил Бретань, где работал вместе с Ван-Гогом, Серюзье и Морисом Дени, и уехал на Таити.
Это было восьмого июня (он отметил этот день, как важное событие в своей жизни), когда он вступил на землю Таити. Оглядевшись, он не мог не заметить, что этот остров лишь вершина горы, затопленной во время последнего всемирного Потопа. Таити переживал тревожные дни: последний король острова был болен, и темные пятна, выступавшие на горе в час заката, предвещали его смерть. Вместе с королем умирали последние скрепы древнего царства. Во время похорон короля Гогена призвали помогать королеве украшать залу, в которой совершалась церемония. По ночам он слушал погребальные песни, которые пел весь народ, и они звучали для него слаще Патетической симфонии. После он ушел из столицы Папеэте, где было слишком много европейцев, в глубину острова и нашел для себя хижину в округе Матаиэа. Хижина стояла на плече горы, а кругом было море.
Прежде всего, поселившись в ней, он познал одиночество и молчание-таитийской ночи, от которой был отделен лишь легким наметом пальмовых листьев. Утром он увидел на море пирогу и в ней нагую женщину.
На пурпурной земле лежали желтые, как бы металлические листья, складывавшиеся в узорные знаки священного письма. И он прочел в них слово ?tna, что по-маорийски значит Бог.
Так в первый день были преподаны ему молчание, нагота и имя Божье.
На другой день он почувствовал голод, но увидал, что здесь ничего нельзя купить за деньги и что, хотя пища висит на деревьях и кишит в море, но он не умеет достать ее. Тогда к хижине его подошла маленькая девочка и поставила пред ним вареные овощи и свежие плоды. А когда он насытился, мимо него прошел человек и спросил «Paia?» (сыт ли ты?).
И Гоген спросил себя в первый раз, кто дикарь: они или он?
Он пытался писать. Но пейзаж с его свободными, дикими красками ослеплял его. Он не решался сказать на полотне то, что видели его глаза.
В его хижину пришла женщина и стала рассматривать фотографии, развешанные на стенах. «Олимпию» Эдуарда Манэ она рассматривала с особым интересом.
– Она нравится тебе?
– Да, она очень красива. Она твоя жена?
И тогда Гоген солгал и признал себя мужем прекрасной Олимпии.
Эта женщина согласилась, чтобы он написал портрет.
Она не была красива согласно европейским канонам красоты. Она была прекрасна; черты ее лица были гармоничны, углы рождались от пересечения изогнутых линий, как на портретах Рафаэля, и рот ее был вылеплен скульптором, который в одну линию сумел вложить всю радость и все страдания одновременно. Он работал страстно и торопливо, читая в чертах ее лица и в глубине ее глаз тысячелетия неведомой ему жизни.
Он начал понимать язык таитян и во всем стал подобен людям, жившим рядом с ним. И они приняли его и стали смотреть как на своего. Один из его новых друзей однажды сказал ему: «Ты не такой, как все. Ты можешь то, чего другие не могут. Ты приносишь пользу людям».
Это слово больше всего поразило Гогена. Это был первый человек, из уст которого он услыхал, что художник-полезен.
Из черного и розового дерева он вырезал фигуры людей и богов, и его стали звать на острове «человеком, который делает людей».
В нем возникло желание найти себе жену. Он сел на лошадь и поехал на другой край острова.
Когда он проезжал через округ Фаонэ, один старик сказал ему с порога своего дома: «Эй, человек, который делает людей, иди есть с нами».
– Я иду искать себе жену, – ответил он на вопрос, куда идет он.
– Хочешь взять мою дочь? Она молода, красива и здорова.
– Приведи ее.
На ней было прозрачное платье из розовой кисеи, чрез которую были видны ее золотистые плечи и грудь, которая была заострена двумя твердыми розовыми сосцами. Ей было тринадцать лет, как Сельваджии. Ее звали Теура.
– Ты не боишься меня? – спросил Гоген.
– Aita! (нет).
– Хочешь всегда жить в моем доме?
– Ena! (да).
Так Теура стала его женой.
Теура была смешлива и грустна одновременно. Она говорила мало. Сперва они внимательно изучали друг друга. Но в то время как через несколько дней он почувствовал, что Теура читает в его душе, как в открытой книге, сам он увидел, что в ее юной и древней душе таятся неразрешимые для европейца тайны. Он полюбил Теуру и сказал ей об этом. Она же засмеялась, потому что уже знала это. И Теура полюбила его, но не говорила об этом. Она помогала его работе и научила многому, чего он не знал.
Однажды, когда, ушед на целый день в город, он вернулся позднею ночью, то застал Теуру в темной комнате, лежащей на груди, с зрачками, безмерно расширенными от ужаса. Она смотрела на него и не узнавала. Страх ее был могуч, передавался ему; когда она пришла в себя, она сказала ему голосом, в котором дрожали рыданья:
– Никогда не оставляй меня одну без огня.
– Мы, французы, ничего не боимся, – сказал Гоген. Но это была ложь, потому что в этот час ему открылось познание великого страха, которым живо человечество.
Теура научила его именам богов страшных и могучих, которые сотворили мир и правят им; она сказала ему имена звезд и планет и спела ему старые легенды. И он чувствовал, что миллионы поколений древнейшего из человечеств говорят с ним ее младенческим лепетом. У него же не было тех знаний, которыми он мог бы обогатить ее. Он пытался объяснить ей, что земля движется вокруг солнца, но не мог.
В словах же маорийских легенд он нашел семена и прообразы всех идей и научных теорий, которыми гордится европейская наука.
Однажды, когда начался лов рыбы, Гогену посчастливилось вытащить две чудовищных скумбрии. Это заслужило ему большое почтение между островитянами, так как счастье есть величайшая из добродетелей. Но в то же время он уловил за своей спиной легкий смех. Крючок его лесы оба раза впился рыбе в нижнюю челюсть, что указывало на неверность жены во время отсутствия мужа.
– Хорошо ли ты провела этот день со своим любовником? – спросил он у Теуры.
– У меня нет любовника.
– Ты лжешь. Рыба сказала.
Тогда Теура медленно поднялась и пристально поглядела на него. Ее детское лицо вдруг преобразилось таким внутренним светом мистической торжественности, величия и тайны, что Гоген ясно почувствовал, что «Некто Властный стоит между ними», и против воли его пронизал трепет веры.
Теура тихо заперла дверь и, ставши посреди комнаты, громким голосом начала произносить слова молитвы:
Спаси меня! спаси меня!