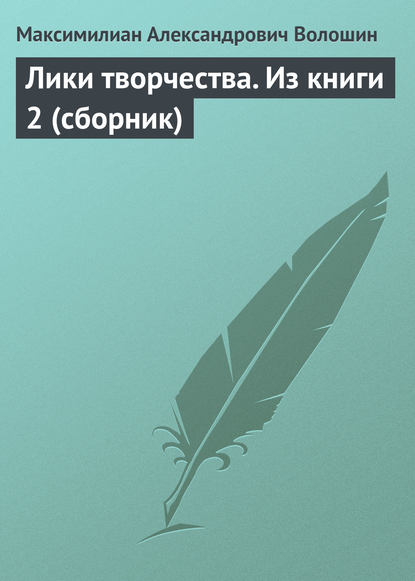По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лики творчества. Из книги 2 (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Поэтому материал грубый, упорный, не приспособленный к обработке будет говорить слова более глубокие и проникновенные, чем материал гибкий и податливый, потому что свободно рожденный выше культурного раба.
Масляные краски – это именно тот раб, который отравил современное искусство.[16 - Говоря в масляных красках, я говорю только о масляных красках, приготовленных фабрикой, потому что масляные краски, растираемые руками самого художника или его учениками, в существе своем были совершенно иными элементами.]
Приготовленные руками и рецептами того самого хама, которого ненавидит художник, безмолвно покорные, как публичная женщина, каждому его желанию, они затаили в себе свободную легкость пошлости и затягивают на этот путь каждое несознательное движение руки.
В материале грубом есть свое бессознательное творчество, которому художник может без страха отдаться, грубый материал сам направит руку художника в момент его слабости.
Масляные краски лишили художника великой стихии бессознательного творчества.
Подобно машине, масляные краски являются мощным Демоном на службе человека. Этот Демон подчинен математическому сознанию человека, и если это сознание ослабевает, то Демон становится выше человека, и тогда он уводит его из области искусства в царство хама.
Масляные краски заставили выйти художников из области бессознательных прозрений вдохновения в область волевую и сознательную. Если мы с этой точки зрения взглянем на современное состояние живописи, то многое станет нам ясным.
Эта сознательность работы, необходимая при масляных красках, повела к тому, что живопись вступила на путь опытов и проб.
Вначале я уже говорил о двух степенности языка, которым говорит искусство, о том, что следует различать язык слов от языка символов и образов, язык простого рисунка и краски от языка стиля, от языка сложных художественных приемов.
Первая степень языка основана на напоминании о реальностях мира, в вторая – на напоминании о раньше созданных произведениях искусства.
Первая степень сводится неизбежно к простейшим словам и междометиям, каковые и были главным делом импрессионистов. Они восклицали: «Свет!» «Воздух!» «Небо!» «Полдень!» «Тень!», подобно Сирене в рассказе Жюля Леметра, язык которой ограничивался только именами стихий и простейших явлений стихийной жизни.
Реальная заслуга их великой работы в том, что они дали точное определение слов, отметивши и определивши каждое понятие своей собственной индивидуальностью.
Живописная работа нашего времени сводится к установлению и определению слов и символов.
Это работа создания языка, но современному искусству неизвестна плавная и ритмическая речь старых мастеров. Но для будущего искусства приготовлен нами словарь таких размеров, каким еще никогда не пользовалось ни одно искусство прошлых веков.
Задача искусства лежит не в том, чтобы быть зеркальным отражением своей эпохи, а в том, чтобы в каждый момент преображать, просветлять и творить окружающую природу.
Искусство есть оправдание жизни. То, что отмечено кистью или словом, то оправдано и стало видимо.
Люди не видят те вещи и явления, которые не отмечены восклицательным знаком художника.
А восклицательный знак не есть ли типографический символ языка св. Духа?
Творческий акт – это нисхождение духа в материю. Он мучителен и радостен, потому что он крестное нисхождение Бога в материю. Мечта, воплотившись, потенциальною пребывает в теле своем.
Тогда наступает новый акт творчества – восприятие художественного произведения зрителем или слушателем. Начинается восхождение духа.
«Понимание – это отблеск творчества», – говорил Вилье де Лиль-Адан. Эти слова только предчувствие истины, потому что то, что мы называем восприятием и пониманием, на самом деле есть самоопределение художественного произведения, которое сознало само себя в душе зрителя.
Жизнь художественного произведения и его воздействия совершенно независимы от воли и планов его создавшего.
Самосознание произведения искусства в душе народной есть факт более торжественный и важный, чем акт творчества.
Конечная цель искусства в том, чтобы каждый стал пересоздателем и творцом окружающей природы, будь он творцом или ступенью самосознания художественного произведения.
* * *
Итак, вот основные положения этой статьи.
1) Традиция и канон – это не мертвые механические формы, а живой и вечно растущий язык символов и образов. И только на нем может возникнуть индивидуалистическое искусство.
2) Индивидуализм возникает из чувства самосохранения, но только тогда он достигает крайней точки своего развития, когда добровольным отказом от себя находит свое высшее самоутверждение.
3) Современные художники для того, чтобы достичь этих крайних и высших точек индивидуализма, должны отказаться от своего имени и от своего земного лица, чтобы вся личность целиком перелилась в художественное произведение и угасла в нем так, как Дух угасает в безднах материи.
4) Конечная цель искусства в том, чтобы каждый стал пересоздателем окружающей природы, будь он творцом, помрачившимся и ограничившимся в своем художественном произведении, или ступенью самосознания художественного произведения.
5) Ложное положение пластических искусств в наше время заключается в том, что художник и ремесленник перестали быть одним липом; поэтому творчество вещей, окружающих человека, перешло в руки фабрики, и художники потеряли возможность активного и непосредственного пересоздания окружающей жизни.
6) Ложь современной живописи не в ее приемах и методах, которые в существе своем все и остроумны и истинны, а в том, что она обречена на единственную форму воплощения: картину, написанную масляными красками и заключенную в раму, – картину, которая абсолютно чужда обстановке и архитектуре современного жилища.
7) Масляные краски лишили живопись интимного общения с материалом и стихии бессознательного творчества.
«Осколки святых чудес»
Большое искусство всегда радостно.
Это единственный, быть может, критерий, по которому можно отличить временное, малое искусство от искусства вечного.
Пусть идея, воплощенная в нем, будет трагична, но уже в том, что она воплощена, – есть великая радость. Радость искусства – это радость воплощения. Это радость найденных форм.
Созерцая четкую линию гор на вечернем небе, мы не думаем ни о трагизме геологических переворотов, выдвинувших этот кряж из глубины земли, ни о безысходности устремлений огненных духов, творящих землю: мы пьем лишь радость примирения законченных форм.
Так же радуемся мы, созерцая мрамор Ниобеи, и уже радостью постигаем трагический пафос, в нем воплощенный.
Наивное ликование души, радость, одна лишь радость может помочь нам разобраться во многоликих, многооких и многоцветных мельканиях современного искусства.
Эта субъективная, столь произвольная, по-видимому, оценка – единственно возможная и непогрешимая по отношению к современности.
Ведь в жизни художественного произведения таинство понимания так же значительно, как и таинство творчества. Эти два мгновения равносильны, как мужское и женское начало во мгновении зачатия. Переживающий радостно созерцания создает не меньше, чем творящий. Понимание это женская стихия, которая в радостном трепете принимает в себе творческое семя мужественного духа. Произведение же искусства в своем окончательном воплощении рождается уже пониманием.
* * *
Большое искусство может быть самим солнцем и может быть одним лишь из утренних или одним лишь из закатных лучей его; но всегда остается оно большим солнечным искусством, которого никогда нельзя смешать с лучами и светами земных огней.
На выставке «Союза» дух радуется о «Версалях» Бенуа и его эскизах к «Павильону Армиды»; и не знаешь, радость ли это о самом солнце или о закатных лучах его.
Нельзя смотреть на эскизы «Павильона Армиды», мысленно не переживая самого балета. Они лишь напоминание о той пышности, которая доступна художнику, творящему не на бумаге, а играющему живым человеческим телом, тканями и золотом.
В «Павильоне Армиды» Бенуа воскресил ту величавую пышность большого зрелища, которая недоступна и неизвестна нашему времени, великолепие придворных празднеств старых королевских дворов, всю полноту оттенков древнего пурпура, сверкание сказочных сокровищ и необузданность геометрических фантазий Пиранези.
Ему ведомы магические слова, имеющие власть воскрешать минувшее, и душа его избыточна светом древних солнц искусства.
Ореолы заходящих солнц всегда пышнее и величавее, более обременены пурпуром и золотом, чем девственные пальцы утренних зорь, расплетающих гирлянды чайных роз.
К кому из крупных художников этих двух выставок (по существу своему нераздельных) мы ни подойдем: к Бенуа ли, к Сомову, к Серову, к Богаевскому, к Головину, к Добужинскому – на всех них лучи заходящих солнц, все они упоены вечерним светом Старой Европы.