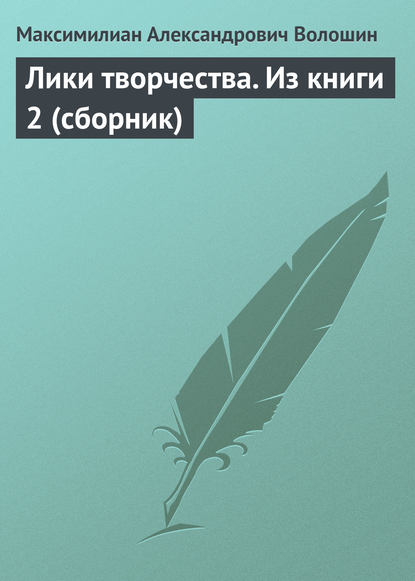По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лики творчества. Из книги 2 (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Таков закон.
Индивидуализм – это семя.
У семени уже нет прямой физической связи с прошлым. Оно заключено в самом себе и таит возможность возникновения целого мира. То, что в средние века было доступно художественной общине, тенерь потенциально заложено в личности. Но эта потенциальность должна быть еще выявлена.
Семя должно истлеть в земле, чтобы стать великим ветвистым деревом.
В основе каждого великого искусства лежит индивидуализм, но индивидуализм не самодовлеющий, а преодолевший самого себя, отказавшийся от себя ради своего плода.
Переходя здесь к вопросу об индивидуализме наших дней, мы замечаем, что наш индивидуализм содержит в себе в высшей степени элемент самосохранения и совершенно чужд идеи самопожертвования, что доказывает только, что наш индивидуализм еще далеко не достиг своих конечных и предельных точек развития.
В средние века и в эпоху Ренессанса искусство пластическое жило в самом сердце народной жизни и творило все вещи, которые окружали человека.
В тяжелый перелом демократического создания Европы, когда новый Демон, имя которому Машина, вступил в человеческую жизнь и стал творить вещи и обстановку человека, художники отступили от жизни и потеряли непосредственную творческую связь с ней. Произошло разделение художника и ремесленника, неведомое раньше. Художникам, для того чтобы спасти себя в том абстрактном и безвоздушном пространстве, в котором они очутились, надо было для самосохранения замкнуться в свой индивидуализм.
В XIX веке искусство стало перед жизнью, потому что оно перестало быть внутри жизни.
Освободительного движения в искусстве XIX века не было, и нет его и до сих пор; то, что мы называем движением освободительным, на самом деле было движением охранительным: но охранялась здесь не традиция искусства, а обособленное положение художников, стоявших вне жизни. Общее чувство было боязнь запачкаться об эту фабричную и мещанскую жизнь, которая заполонила все формы жизни. Художники отступили перед мещанством и провозгласили индивидуализм как догмат неслияния с жизнью.
Щиты, которыми защищался индивидуализм, были почерк, маска и имя.
В дальнейшем своем развитии индивидуализму предстоит преодолеть свое имя. Это будет той жертвой человеческой, которая подымет его на новую ступень.
Индивидуальность должна перелиться целиком в художественное произведение и умереть в нем.
Великое народное искусство всегда бывает безымянным.
Имя только тогда имеет смысл, когда оно служит знаменем.
Когда идет борьба против окостенелых форм, знамена необходимы. Душа летит за этими лоскутами, ныряющими в вихрях сражений.
Но когда борьба прошла и наступает время созидательной работы, знамя, развевающееся над мирной мастерской, становится простой торговой рекламой.
В настоящее время художникам не нужно больше знамен. Свободные искания в искусстве завоевали свое существование, но художники продолжают стараться прежде всего создать себе имя – фабричную марку, которая отмечала бы все вышедшее из рук художника.
В моменты высшего развития народного искусства имя всегда исчезает. В готическом искусстве XIII века почти нет имени.
Маска или почерк в своей области равносильны имени.
Самосохранение мешает общей работе, которая возможна только при свободно установившейся иерархии искусства.
В те эпохи, когда каждый стремится создать свою маску и свой почерк, не может возникнуть общего стиля.
В эти эпохи исчезает возможность честного пережевывания уже раз сделанной работы, в котором лежит основа постепенного совершенствования стиля, на котором зиждется несокрушимый фундамент каждого великого здания.
Кроме того, имя создает понятие «плагиата» – явление в высшей степени вредное для искусства – угрозу, висящую над головой каждого современного художника.
То, что теперь называется «плагиатом» в искусстве, есть основа преемственной связи между художниками.
Есть две стадии понимания идеи.
Идея может быть понята логически и принята умом как истина, но это еще не делает человека ее обладателем.
Но есть момент, когда эта же идея вдруг становится частью его самого, воспринимается органически, и тогда это его идея, она стала зерном и дала росток. И если форма цветка даже до полного тождества совпадет с известной уже в человечестве формой, этот цветок все-таки будет его собственным и не будет плагиатом.
Какому извращенному мещанством уму могли прийти в голову безумные мысли, что идея может принадлежать кому-нибудь? В прошлые века имя плагиата существовало, но оно имело совершенно иное значение, чем теперь.
В XVII в. Пьер Бейль давал такое определение плагиату:
«Совершить плагиат это значит украсть из дому не только мебель и картины, но унести с собой и веник и пыль».
Совершающим плагиат был тот, кто грабил без вкуса и без разбора идейные обиталища.
Тот же, кто брал с выбором только необходимое для своего труда, совершал поступок вполне законный.
Индивидуализм современного искусства, воплощенный в имени, создал небывалое по разрушительной силе понятие плагиата.
Кроме этих трех преград современного искусства, Имени, Маски и Плагиата, у живописи есть еще одна форма, которая служит первопричиной современной небывалой смуты в области изобразительного искусства.
Это то, что вся область искусства, раньше создававшая вещи, теперь перешла в писание картин.
С тех пор как в изобразительных искусствах установилась самодовлеющая форма картины, не связанной ни с каким определенным местом, легко переносимая, заключаемая в любую раму, развитие живописи пошло неизбежно совершенно новым путем.
Картина, существовавшая первоначально как фреска, т. е. вынимавшая всю стену, стала постепенно окном, прорубавшим отверстие в стене.
В этой своей стадии картина находилась в органической связи с архитектурной логикой всего здания.
Размеры, форма и орнамент рамы позволяют нам проследить эту архитектурную зависимость картины.
Но когда в XIX веке началось фабрично-промышленное движение, заставившее художников отступить от жизни, то картина как форма художественного произведения получила самостоятельное значение и совершенно утратила свою связь с комнатой и со стеной.
Картина стала символическим окном души и этим дала громадный простор развитию индивидуалистического искусства.
Но, с другой стороны, для нее не оказалось больше места в человеческом жилище, заполненном современными вещами – этими некрещеными детьми мещанства и машины – Хама и Демона.
Художники, объявившие, что они не согласны с жизнью, стали вежливо и осторожно писать ее портреты, стараясь вульгарность общего выражения физиономии заменить яркими красками, сияющими на ее лице, нездоровым лицам пролетариев придать характер древнего проклятия, а бессмысленным глазам кокоток диаболический пламень соблазна.
Но все они делали одно и то же, писали картины никому не нужные, которых некуда повесить в европейском жилище, которые совершенно не подходят к характеру современной комнаты, для которых, как для неизлечимых сумасшедших, приходится строить специальные дома и запирать их туда.
Одним словом, благодаря установившейся форме картины, художник перестал быть создателем материальной сферы, окружающей человека, и стал только ее описателем, ее портретистом.
Пластическое искусство только до тех пор может быть велико, пока оно непосредственно интимно связано с материалом – это лежит опять-таки в самой сущности идеи воплощения, которая должна «помрачиться и ограничиться», и тогда грубая глыба материи просияет внутренним светом.
Эволюции формы, как я уже говорил, которая все больше и больше освобождает идею в ее первобытной чистоте, предшествует инволюция – погружение духа в материю – нисхождение идеи в черную бездну материала, в котором она должна претвориться.
Таинство художественной техники в том, что художник приходит г. глухонемой и слепой материи и любовным насилием заставляет стать вещей и зрячей.
Не художник говорит, но материя сама свои слова говорит, пробужденная им. Он может только вызвать те слова, которые уже потенциально живут в материале.