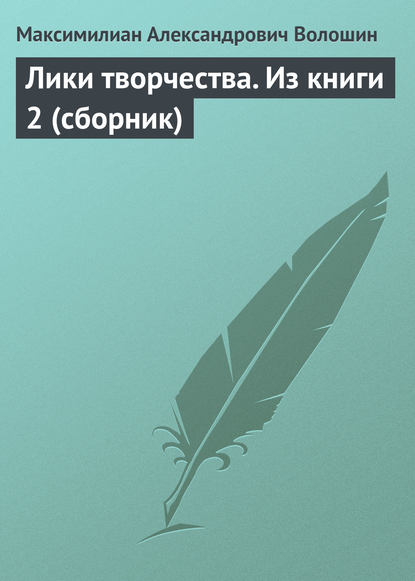По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лики творчества. Из книги 2 (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Действительно, существуют две живописи, и хотя имена «старая» и «новая» живопись сложились совершенно произвольно, тем не менее под этими именами скрыты вполне реальные понятия.
Различие это таится в основных свойствах нашего глаза.
Свет, прорвавший окна в темном человеческом жилище, точно так же просверлил слепую броню черепа, разбередил спавшие нервы и растравил их боль до неугасимого горения, которое стало зрением.
Это было безумие боли, купель страданий, нестройность расплавленного хаоса красок, которые хлынули в сознание человека.
Тогда сознание, великий уравновешиватель страданий, призвало на помощь то чувство, которое служит для человека критерием объективного, – осязание.
Осязание, в котором был скоплен весь опыт человека о реальностях вещей, слившись со зрением, стало линией, формой, гранью, перспективой.
Растворившись в отвлеченной геометрии форм, зрение перестало быть болью, а стало знанием.
Так человек снова стал слепым.
Наше зрение, которым мы пользуемся каждую минуту, не есть виденье. Это лишь бессознательная логическая работа, беглое чтение иероглифов привычной обстановки, которые мы различаем по внешним признакам, как слова в книге. Обычно мы не видим глазами, мы лишь собираем материалы, отмечаем и группируем.
Из этих качеств нашего зрения вытекает неизбежность сосуществования двух стихий живописи: одной синтетической, основанной на том опыте, который наш глаз унаследовал от осязания, и другой аналитической, существующей новыми прозрениями глаза.
Если первая нас успокаивает и дает то ощущение гармонии, которое обычно считается необходимым свойством истинной красоты, то другая тревожит и срывает с нашего глаза те покровы знания, под которыми успокоился для нас зрительный мир.
Поэтому, когда мы впервые останавливаемся перед картинами новых мастеров, то в наш мозг врываются вихри огня и красок и нам снова приходится переживать страдания слепого существа, которое впервые стало безумно зрением.
Когда эстетическое чувство, жаждущее успокоения и гармонии, протестует, зрячий человек, не подозревающий о том, что он слеп, негодует, поносит новую живопись скверными словами и утверждает, что «в природе так никогда не бывает».
В сущности ни аналитическая, ни синтетическая живопись не могут существовать отдельно одна от другой, они существуют в каждой картине. Но преобладает одна из них соответственно исканиям художника.
Раньше художники искали смысла видимого, в конце же XIX века они начали стремиться увидеть новое. Первых можно сравнить с оратором, произносящим вдохновенную речь, а вторых с поэтом, раскрывающим новые миры в звуке отдельного слова.
Старый художник, рисуя лицо человека, стремился познать его индивидуальность, его личный характер, новый же в том же лице видит лишь поле преломления света и противупоставление красок и, изучая их, прозревает через них мировые законы зрения. Кто из них правее – вопрос праздный. Но если синтетическая живопись понятнее и приятнее для зрителя, то путь художника-аналитика труднее и трагичнее.
Марсель Швоб в одной из своих «Вымышленных жизней» такими словами рассказывает жизнь живописца Паоло Учелло:
«Учелло не заботился о реальности вещей, но лишь об их разнообразии и о бесконечности линий; он рисовал синие поля и красные города, рыцарей в черных доспехах, на лошадях из черного дерева и с огневеющими ноздрями и копья, подобные лучам солнца, устремленные во все концы неба.
Он составлял круги, делил углы, исследовал все создания во всех их видах, он ходил спрашивать объяснения проблем Эвклида у своего друга математика Джиованни Маннетти; после он запирался и покрывал листы бумаги точками и дугами. Он постоянно занимался архитектурой, но вовсе не для того, чтобы строить.
Он ограничивался тем, что намечал направление линий от фундамента до верхних карнизов, пересечения прямых линий, схождения сводов к их ключу, ракурсы потолочных балок, которые расширялись веерами, сходились в одну точку в глубине длинных зал. Он изображал всех животных, их движения, людей для того лишь, чтобы свести их к простейшим линиям.
Затем, подобно алхимику, который топит металлы и элементы и в их сплавках ищет золота, Учелло сливал все формы в плавильную печь форм. Он их соединял, комбинировал, плавил, чтобы найти простейшую форму, от которой зависели бы остальные. Он думал, что можно упростить все линии до единой идеальной формы. Он хотел познать мир так, как он отражается в глазу Господа, который видит все фигуры лучащимися из единого сложного центра.
Кругом него жили и творили Гиберти, делла Роббиа, Брунелески, Донателло, каждый гордый своим искусством и презирая бедного Учелло с его манией перспективы, с его голодным домом, полным пауков. Но Учелло был еще более горд, чем они. G каждой новой комбинацией линий он мечтал, что нашел метод творчества. Своей целью он ставил не подражание природе, но власть свободно создавать вещи. Так он жил, и его тяжело думающая голова была всегда завернута в плащ. Он не замечал того, что он ел и что он был и стал вполне подобен отшельнику. Однажды в поле около старых камней, заросших травой, он встретил девушку в венке из цветов. Она была одета в длинное платье, стянутое у пояса бледной лентой, и движения ее были гибки, как стебли, которые она гнула. Ее звали Сельваджия, и она улыбнулась Учелло. Он отметил изгиб ее улыбки. А когда она посмотрела на него, он увидел все маленькие линии ее ресниц, кружки ее зрачков, и изгиб ее век, и тонкие завитки ее волос, и он представил себе мысленно различные положения венка, который был на ее голове. Но Сельваджия не знала об этом, потому что ей было тринадцать лет. Она взяла Учелло за руку и полюбила его. Учелло увел ее в свой дом.
Целые дни она сидела на корточках перед стеной, на которой Учелло чертил вселенские формы. Никогда она не могла понять, почему он больше любил смотреть на прямые и дугообразные линии, чем на нежное ее лицо, которое тянулось к нему.
Утром она просыпалась раньше Учелло и радовалась, видя себя окруженной нарисованными птицами и зверями. Учелло нарисовал ее губы, ее глаза, ее волосы, ее руки, отметил все положения ее тела; но он не написал с нее портрета, как делали другие художники, когда любили женщину.
Ибо Учелло не знал радости ограничиваться индивидуальностью. Все формы и движения Сельваджии были брошены в плавильную печь форм вместе с движениями животных, линиями растений и камней, лучами света, извивами дыма и морских волн. И, не думая о Сельваджии, Учелло оставался склоненным над плавильного печью форм.
Между тем в доме Учелло нечего было есть. Сельваджия не посмела об этом сказать ни Донателло, ни другим. Она замолчала и умерла. Учелло зачертил фигуру ее окоченевшего тела и сочетанье ее худеньких ручек и линию ее бедных замкнувшихся глаз. Он не знал, что она умерла: впрочем, он настолько же не знал, что она была жива. Эти новые отмеченные формы он кинул туда же, где были все формы, им собранные.
Учелло стал стар, и никто не понимал его картин. В них видели сплетение кривых линий. В них невозможно было больше различить ни земли, ни растений, ни животных, ни людей. Уже в течение многих лет работал он над своим лучшим творением, которое он укрывал от всех глаз. Оно должно было обнять все его исследования и стать верным ликом его концепции. Учелло кончил свою картину, когда ему было 80 лет. Он позвал Донателло и благоговейно раскрыл ее перед ним. Донателло воскликнул: „О, Паоло, закрой свою картину!“. Учелло стал спрашивать великого скульптора, но тот не прибавил ни слова. Таким образом Учелло узнал, что он сотворил чудо. Но Донателло не видал ничего, кроме бессвязного клубка линий.
Несколько лет спустя Паоло Учелло нашли мертвым от истощения на его одре. Лицо его лучилось морщинами. Глаза остановились на познанной тайне. В плотно сжатой руке он держал клочок бумаги, покрытый переплетеньями, которые шли от центра к окружности и от окружности возвращались к центру».
Эта жизнь глубоко напоминает жизнь Сезанна, как мы знаем ее по Клоду Лантье в романе Зола «L'Cuvre», и жизнь Ван-Гога, как она раскрывается из его переписки.
Клод Лантье – Сезанн пишет, точно так же как Учелло, портрет своего умершего ребенка, и толпа на выставке издевается над его вещью. Ван-Гог в своих письмах в каком-то экстазе переименовывает целыми страницами имена красок, которыми он пишет свои этюды.
Паоло Учелло искал смысла линии, Ван-Гог и Сезанн искали смысла красок.
До прекрасного, трогательного и жалкого безумия Сезанна и Ван-Гога живопись дошла через импрессионизм. Это был длинный путь.
Своим предком импрессионисты именуют Делакруа. Делакруа, зачарованный Тицианом и Веронецом, искал лишь большей яркости и полноты красок, ударяя, как литавры, друг о друга дополнительные тона. Но его сущностью оставались не краски, а романтический пафос композиций.
Эдуард Манэ пошел от испанцев: от Веласкеза и Гойи, и слишком любил и ценил личность. Первое поколение импрессионистов – Кл. Моне, Сизлей, Ренуар – еще не переживало трагедии Учелло. Для них живопись была радостным, простым и наивным искусством.
В тот знаменательный для французского искусства день, когда в маленьком голландском городке Саандаме юный Клод Моне, разворачивая купленный им в лавке кусок сыра, увидел, что он завернут в рисунок, который был первой японской гравюрой, попавшейся ему на глаза, и был так потрясен неожиданным откровением красок, что от радости мог лишь несколько раз воскликнуть «черт побери! черт побери!», в этот день импрессионизм родился и стал существовать.
Правда, японское искусство Гонкуры открыли двадцатилетием раньше и уже в слове создавали то, что впоследствии стало импрессионистским пейзажем, но кто читал Гонкуров в то время – в начале семидесятых годов? И молодые художники, так же как Клод Моне, не только не видали, но и не слыхали ничего о японском искусстве. Нужна была лишь эта маленькая гравюра Корена, изображавшая стадо диких коз, измятая и запачканная голландским сыром, чтобы серая плева сошла с глаз европейской живописи. Зарождение импрессионизма было радостно, как ранняя весна Ренессанса. Первые импрессионисты не строили никаких сложных теорий.
Они вышли на свет из темной комнаты и по-детски радовались свету и краскам и передавали наивно и точно, как примитивы plein-air'a, лишь то, что они видели, не заботясь ни о каких обобщениях и углублениях.
Казалось бы, что судьба Учелло суждена была той группе, что пошла за ними и дала научное обоснование их теориям, – неоимпрессионистам: Сейра, Синьяку, Люсу, Рюиссельбергу, но это было не то. Неоимпрессионисты вовсе не искали в самой живописи новых законов света. Они лишь применили готовые научные теории Гельмгольтца, Шевреля к живописи, созданной Моне, и стали писать ярко, логично, но холодно и утратили солнечный лиризм первых импрессионистов.
Судьба Учелло была суждена Сезанну и Ван-Гогу.
Сезанн – это Савонаролла современной живописи. На искупительном костре своего творчества он сжег все внешне красивое, все маскарадные наряды и маски, все чары века сего. Это аскет, подвижник, иконоборец. Его живопись это обнаженная правда. Не правда ослепительного впечатления, как у импрессионистов, а скучная и некрасивая правда упорной работы, от которой начинает мутиться в глазах, фигуры кривятся, краски становятся жестяными и грязными. В нем несокрушимый порыв творческой воли и глубокое отчаянье работы.
В мире линий и красок, точно так же как и в мире слова, существуют «клише»: готовые фразы, употребляющиеся в речи как простые слова. Для понимания речи клише необходимы. В то время как обилие их делает речь плоской и пустой, полное отсутствие их ведет к темноте и непонятности произведения, к мученичеству художника. Таким мучеником был Маллармэ во вторую половину своего творчества, такое же мученичество – картины Сезанна.
Грубая и жестокая живопись Сезанна так же глубоко утончена, как поэзия Маллармэ, как искания Учелло. Сезанна оценили раньше всего, еще со времени первого героического похода Гюисманса, как изобретателя natures mortes – синей скатерти, фаянсовых тарелок и красных яблок. Это было самое доступное в нем.
Безотрадные пейзажи его, написанные тяжелыми глыбами, точно, грубая мозаика из потускневшей жести, цинка, съеденного кислотами, и зацветшей меди, уже труднее приемлемы для глаза. Точно так же, как Учелло прозревал свои безотрадные круги, сечения и кривые в полноте расцвета итальянского Ренессанса, точно так же Сезанн свои тусклые жестяные пейзажи, написанные с такой титанической силой, видел под сияющим золотом провансальского солнца.
Сила же, вложенная им в его портреты, почти недоступна пониманию того глаза, который не привык жить распластанным на полотне. В этих портретах страшная правда галлюцинации глаза, пресыщенного работой, ослепшего от внимательного вглядыванья. Фигуры их кривы, лица скошены, глаза не поставлены на место; даже внешнюю правильность рисунка, даже соблюдение анатомического скелета Сезанн-подвижник отвергает как непростительную роскошь, пошлое клише знания.
Пустынник Пафнутий в «Таис» Анатоля Франса, после того как он потряс своим обличающим словом душу юной александрийской куртизанки и на костре заставил ее сжечь ее сокровища, в течение целого дня волочит за собой по раскаленным пескам ее, измученную и кающуюся, и наконец оборачивается и плюет ей в лицо святым христианским плевком. Портреты Сезанна таят в себе оскорбительность, необузданную грубость, пламенеющую чистоту и святость такого плевка. В них дух всесожжения, пламень великолепного аскетизма. Сезанну можно удивляться; но можно ли его полюбить? А вместе с тем по широте и полноте колорита чувствуется, что, приди Сезанн в другую эпоху, когда надо было не разрушать старые клише, а произносить пышные и красивые речи, он бы говорил не менее звучными октавами, чем Веронез, не менее законченными стансами, чем Тициан.
В этом его отличие от Ван-Гога. В какую бы эпоху расцвета Ван-Гог ни пришел на землю, он всегда остался бы тем же Ван-Гогом, эпилептиком красок, тем же человеком с бледно-желтым бескровным лицом, с жалкими бесцветными глазами, в синей шапке с черным мехом и кровавой повязкой вокруг головы, как на его известном автопортрете, где он написал себя с отрезанным ухом.
История этого портрета кажется эпизодом из жизни Учелло. Это было в Арле. Ван-Гог работал до экстаза. Он настойчиво звал к себе Гогена из Бретани. Гоген приехал. Они поселились в одной комнате и работали вместе, рядом, как два слона, регулярно, без отдыха, без передышки, каждый делая по два этюда, ни о чем друг с другом не говоря, ни о чем не думая, кроме красок. В это время Ван-Гог стал тихо сходить с ума. Однажды, когда Гоген ушел на работу, он отрезал себе бритвой правое ухо до самого корня, отнес его в полицейский комиссариат и, вернувшись домой, сел перед зеркалом писать свой портрет, четко отмечая эффект темно-зеленой куртки на бирюзово-зеленом фоне стены, красноватый японский эстамп, желтое деревянное окно и нервные подергиванья боли на своем бескровном лице. Через несколько дней он по собственному побуждению отправился в психиатрическую лечебницу, откуда писал Гогену: «Приезжай сюда. Здесь тебя тоже вылечат».
После он выздоровел и снова писал копченые селедки в бронзовых и синих тонах, пронизанные светом подсолнечники на зелено-голубом фоне. Однажды он вышел на этюды с холстами, но, не дойдя до того места, где обычно садился писать, достал револьвер и выстрелил себе в живот. Он не упал, но дошел до ближайшего кафе, сел на табурет посреди комнаты и попросил сходить за доктором. Тогда только заметили около него лужу крови. «И это не сорвалось?» – спросил он врача. Когда же тот ответил ему, что рана смертельна, Ван-Гог спросил табака, набил трубку и, сидя согнувшись на табурете, долго и тяжело затягивался, пока не упал мертвый, не произнеся больше ни слова.
В лице Сезанна и Ван-Гога аналитическая живопись дошла до последних пределов психологических возможностей. Дух современного человека не мог дольше выдержать язвы на свет разверстого, ничем не защищенного глаза.
Такова судьба всех искателей философского камня в области искусства. Их жизнь всегда тесна, душна и трагична. А пригоршни драгоценностей, ими оставленные (драгоценностей, которые никогда не радовали их самих, потому что не о них они мечтали), они таят в себе роковые чары заклятых ожерелий и перстней, несущих с собою злой рок и жажду смерти. Произведения эти так напитаны горьким хмелем их души, что в том тревожном восторге, который внушают они, невозможно отделить эстетического наслаждения воплощенными формами от острой жалости и удивления к их судьбе. Так, рассматривая старинное здание, нельзя определить, что волнует больше: гармония ли архитектурных линий или исторические воспоминания.