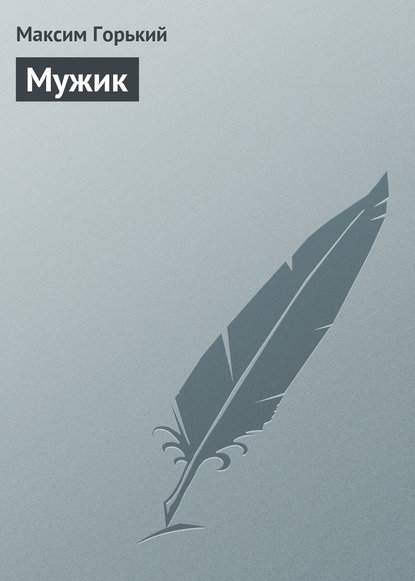По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мужик
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Как видите…
– Вот что, – отвернувшись от Суркова, сказал Шебуев певчему, – вы это серьезно сказали о хоре?
– А то как? Да я вам таких певцов соберу…
– А можете вы устроить духовное пение?
– Я? Да духовное-то еще скорее можно… Духовное! В нем такие красоты есть…
– Театр тоже скоро будет, Владимир Ильич! – сказал Шебуев Суркову. – Скорее, чем я думал…
– Верю… И понимаю – вы Чечевицына на духовном пении поймаете.
Одобряю…
– Ты всё шутки шутишь! – свирепо взглянув на Суркова, сказал Кирмалов. – А тут отверзаются двери… и человек, доселе видавший лишь пакость, ныне может лицезреть красоту… Чучело!
– Егор, не говори высоким стилем! А большого труда стоило вам, Аким Андреевич, наладить это дело?
– Немалого…
– Но вы довольны?
– Нет…
– Бедняга Чечевицын!
Шебуев мельком взглянул на хозяйку и промолчал, лишь на скулах у него явились красные пятна. Скоро он ушел, такой же недовольный и угрюмый, каким явился.
– Нет, – воскликнул Хребтов, проводив его, – этот человек… мне нравится… А?
– Вы как будто не совсем твердо уверены в этом? – спросил Сурков.
– Н-не совсем? Гм… чёрт знает…
– А я совсем уверен, – объявил Кирмалов.
– Неужели и его длинные руки нравятся тебе, Егор?
– Руки? – Кирмалов задумался немножко. – Что ж руки? Коли работают, то хороши… А прочее – эстетика… И чего ты все намекаешь? – вдруг рассердился он.
– Да, Владимир Ильич, – сказала хозяйка, – вы его… травите… Зачем?
Для этого мало не любить человека… Вы посмотрите, как он одинок…
– О, пусть не беспокоит вас его одиночество! – воскликнул Сурков значительно и насмешливо. – Он скоро приобретет себе хорошего, очень хорошего друга!
Варвара Васильевна спокойно посмотрела на него и, красивым жестом руки перебросив свою косу с груди за плечо, сказала:
– Да, это возможно…
II
На одной из площадей города ломали большой каменный дом – старые казармы, купленные Марком Чечевицыным.
Длинный двухэтажный корпус, со множеством труб на крыше, был весь обставлен лесами, – издали он казался опутанным серой паутиной. Из окон на площадь вырывались густые облака пыли; она тяжелым туманом носилась в воздухе, и всё вокруг побелело от нее. Часть железа с крыши уже была сорвана, и обнаженные стропила высунулись, как ребра скелета.
На лесах шумно возились плотники, – раздавался стук топоров, шипела и взвизгивала пила; кровельщики, ползая по крыше, отдирали листы железа и бросали их вниз, – железо, падая, изгибалось в воздухе и гремело, а ударяясь о землю, покрывало все звуки воющим грохотом. В доме что-то трещало, сыпалось, падало; вместе с пылью из окон, похожих на дымящиеся раны, высовывались какие-то доски; плотники подхватывали их и куда-то тащили эти изломанные кости старого дома.
Пыль, точно иней, осела на бородах и одеждах рабочих; от нее все они поседели и хотя задыхались в ней, но работал споро и весело, ибо работа разрушения – приятная и легкая работа.
И день был веселый – ясный и ласковый день ранней весны. На площади, в десятке сажен от разрушаемого дома, раскинулся небольшой садик, и почки на деревьях в нем уже готовы были распуститься. Из клочьев рыжей прошлогодней травы пробивались к свету нежно-зеленые стрелки, и всюду – в воздухе и на земле – чувствовался канун веселого праздника природы. По дорожкам сада гуляли дети. Бледные, заморенные зимою в душных комнатах, они ходили медленно и жмурились от яркого сияния солнца. А у низенькой решетки сада, упираясь в нее руками, стоял архитектор Шебуев и, тихонько посвистывая сквозь зубы, сосредоточенно смотрел, как ломают дом. Его черное пальто из толстого драпа было выпачкано известью и на фуражке, с инженерным знаком, осела пыль.
– На-а подъе-о-о-м берем да-о-о-о! – дружно и громко пели внутри дома.
Раздался треск, тяжелый грохот, дом точно вздрогнул и, выдохнув из окон клубы пыли, окутался в мутную тучу…
– Дядя Осип! – заорал кто-то неистовым голосом.
И снова раздался стройный крик:
– По-оды-мем-ка еще-о разок!
И архитектор высвистывал этот напев, наблюдая, как маленькие фигурки людей разрушают огромное здание.
На площадь тяжело въехала старомодная колесница Марка Чечевицына и остановилась около сада. Большой и тучный купец в сюртуке, похожем на поддевку, и в сапогах бутылках медленно вылез из нее на мостовую, остановился и, приложив руку козырьком ко лбу, тоже стал смотреть на дом.
– Марк Федорович! – крикнул Шебуев, идя к нему.
Тот повернулся на крик, не отнимая руки от лица, и брюзгливо сказал хрипящим голосом:
– А, ты туг…
– Доброго здоровья!..
– Благодарствуй…
– Пойдемте в сад… на лавочку сядем…
– Можно…
Они подошли к решетке сада; Шебуев отворил калитку, посторонился и пропустил купца вперед себя.
– Ишь ты, детишек-то сколько высыпало! – сказал Чечевицын и, сняв с головы картуз, провел по лысине большим желтым платком.
Лицо у купца было землистого цвета, пухлое и как бы недовольно надутое, но при виде детей оно дрогнуло, прояснилось и ожило. Отвисшая нижняя губа подтянулась, сложившись в улыбку; маленькие, серые, недоверчиво прищуренные глазки, под седыми бровями, заблестели умиленно и ласково.
Тяжело согнув спину, он медленно опустился на скамью и, продолжая смотреть на детей, говорил: