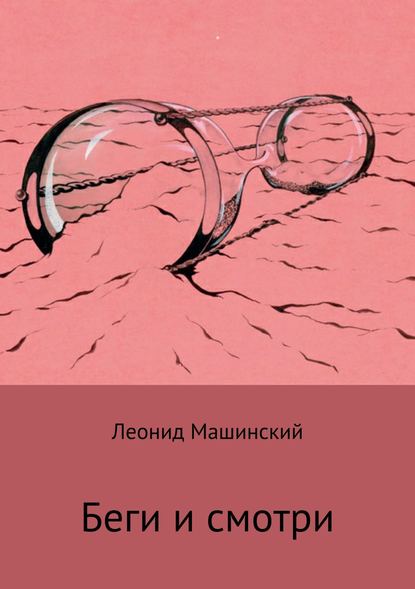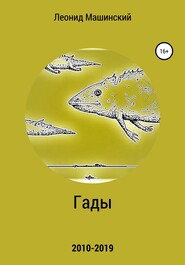По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Беги и смотри
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я вообще был послушным ребёнком. Может быть, слишком послушным, может быть, зря – в те мои годы. Я знал, что мне пора идти домой. Не потому, что там меня действительно кто-то ждёт, а потому, что от долгого гуляния я рискую простыть и опять валяться с температурой дома, вместо того, чтобы ходить в школу и "получать знания", – так говорила мама. Она разумеется преувеличивала – взрослым во всём присущ излишний пафос, но кое-какие знания я всё-таки действительно в школе получал. Например, нельзя было отрицать, что я научился в школе по-письменному писать – печатными буквами я и до того умел. Все остальные достижения, впрочем, были сомнительны. Ну, научился я, скажем, считать несколько лучше. Но, во-первых, так ли уж мне это было необходимо? А во-вторых, можно ли утверждать, что я не сумел бы достигнуть того же самого и дома, пользуясь учебниками и наводкой родителей? Несомненно, что в школе меня заставили читать. До неё я читать не то, чтобы не умел, но не любил и читал очень плохо – как-то ничто меня уж до такой степени ни привлекало, чтобы так напрягаться – да и кого-нибудь взрослого можно было заставить читать вслух и послушать – впрочем, и тут мне больше нравились рассказы из головы, без бумажки. Писать я любил. А читать? Грамота на то и есть, чтобы вывеску прочесть! Вывески я и до школы умел читать вполне удовлетворительно.
Я попрощался с лужей. При всей моей показной нелюбви к показным сантиментам, сам я был очень сентиментален. За неимением друзей, я придумывал их себе на каждом шагу, хотя бы и в лице грязной лужи. Я был склонен наделять характером и очеловечивать любые объекты, мало-мальски обратившие на себя моё внимание, и не видел в этом ничего особенного.
– Прощай, лужа! – сказал я, хотя, казалось, ничто не мешало мне вернуться к этой луже уже завтра. Я отошёл от лужи на несколько шагов и задумался. Почему я так сказал? Как будто прощаюсь навсегда. Мне стало страшно. Может быть, я действительно вернусь домой, заболею и умру? Вот значит и правда я видел эту лужу в последний раз. Первый и последний. «Но нет, – утешил я сам себя. – Просто завтра я изменюсь, проснусь уже другой. И лужа изменится, может, например, высохнуть. Так что встретятся – если встретятся – уже другие двое. Всё ведь изменяется. Да, всё меняется – и это хорошо».
Так я сам себя уговорил, по обыкновению, и уже дошёл до угла ближайшего дома, первого на краю. Почему-то было пустынно. Наверное, это был рабочий день, вообще всё это было похоже на утро. Очень вероятно, что я тогда уже болел и не ходил в школу, но мог позволить себе недалёкую прогулку. В случае чего, всегда было готово оправдание: врачи ведь велят дышать свежим воздухом. И больному – не век же томиться дома, вариться в одном компоте со своими собственными микробами… К тому же весна. Пускай не очень тепло, но…
Словом, у меня было тысяча причин. Чтобы покинуть дом.
Здесь, между этих пятиэтажек, всё было очень убого. То ли их недавно построили, то ли не удосужились хоть как-то благоустроить дворы. Впрочем, и дворов не было, были только промежутки между зданиями. И дороги-то не все были асфальтированы, а там где был асфальт – всё больше выбоины, а в них лужи, а в лужах небо – это, впрочем, меня устраивало.
Рядом можно было увидеть только одно дерево, на самом краю, возле угла, крайнего перед необъятным пустырём, дома. Зато это была сосна. Я никогда раньше не видел сосен внутри Москвы. Только где-нибудь в лесу или в поле – возле деревни. Я даже не был уверен, растут ли сосны в городских парках.
А тут… Для меня это выглядело как чудо. И хотя сосна была небольшая и довольно чахлая – она была самая настоящая. Я снял мокрую рукавицу и потрогал ладонью ствол. Я вспомнил, как шуршит, отпадая оранжевыми плёночками, сосновая кора. К коже, в самом центре ладони пристала толика смолы. Я как зачарованный рассматривал эти блестящие капельки, затопившие о чём-то говорящие кожные линии. Я зачем-то даже намазал этой смолою кончик носа. Наверное для того, чтобы почувствовать запах. Теперь нос прилипал к шарфу, но это меня не злило, а смешило. Я не стал сдвигать липкое место в бок.
Созерцание пустых промежутков между домами стало вызывать у меня тоску. Я ещё раз оглянулся на сосну, в кроне которой шелестела, забытая ещё Нового Года, ставшая почти бесцветной, убогая мишура. На глазах у меня выступили слёзы. Я заторопился домой. Почему-то одинокое дерево напоминало мне памятник на кладбище. И почему-то я подумал, что этот памятник мог бы стоять на могиле моей Любви. Это уж было чересчур, до приторности романтично, да и глупо, весьма глупо…
Дома я пытался смотреть телевизор и читать книгу, но к вечеру окончательно понял, что заболеваю, и понял, что я этого ждал – может быть, оттого и плакал?
У меня очень болело горло – никакой шарф не помог. Но я всё ещё продолжал ощущать лёгкий хвойный аромат, и кончик носа был липкий – или я себе всё это уже только воображал?
Когда умирает маленький человек – всё это вызывает не просто жалость, а какое-то органическое слюне– и соплетечение. Вспомните хотя бы «Гуттаперчевого мальчика» или девочку из «Детей Подземелья».
Я наверно тогда тоже знал эти примеры и мне было себя жалко, жалко до отвращения. Мне отвратительны были собственные слёзы, которые я не мог остановить. Они лились сами собой. Они выливались из меня, как жизнь.
Я лежал около окна, и мать читала мне книгу. Какую-то сказку с картинками – не по возрасту. Я сам её попросил. Для ещё большей жалостливости. Я всё любил доводить до абсурда. Свет резал мне глаза, даже слабый свет от настольной лампы. Неужели никогда я не увижу больше света? Даже подняться и посмотреть в окно мне станет трудно. Может статься, я умру уже завтра…
Приходил врач, смотрел мне горло. Кажется, меня рвало. Я видел собственную мутную кровь в раковине. Кажется, я уже не мог ходить своими ногами – вместо них была какая-то вата. Мне ставили горчичники. Зачем? Скорее всего, у меня была скарлатина или дифтерит. Я почти не мог дышать. Кто же – чёрт возьми! – кто отсосёт у меня проклятые дифтеритные плёнки!? Пусть даже и жертвуя своей жизнью. Ведь я от этом читал в каком-то, впрочем, скучном во всех остальных отношениях, рассказе.
Мать не станет, она побрезгует. Пусть лучше я умираю. У нас даже чашки разные. Теперь – тем более. Может, попросить отца? Но его нет, ушёл куда-то. А я уже почти не могу говорить. Когда придёт – уж точно не смогу попросить его ни о чём. Разве что – глазами – но вряд ли он поймёт.
В положении умирающего – всё же, что не говори – есть определённая сладость. Чувствуешь себя в центре мира, нет, чувствуешь себя центром мира, исчезающего, истаивающего на глазах.
Взоры родителей обращены на тебя как на икону. И ты можешь гордиться, ты имеешь полное право гордиться – ведь это ты умираешь, а не они. Ты едёшь первый, ты идёшь впереди – как Гайдар.
Но больно долго смотреть на блестящие зрачки матерь. Я закрываю глаза. Может быть – навсегда. Может быть, я сплю. Может быть… Мне что-то снится. Может быть, и когда умираешь, что-то снится – во всяком случае, перед смертью, когда ещё не до конца погрузился в неё. Вот я представляю себе, как падаю в колодец. Падаю, падаю… Когда же я долечу до дна? Колодец гулкий, у него сырые бетонные стены; где-то там, далеко внизу, чёрная вода, она блестит, как чёрный лак. Интересно, какими глазами я её вижу? Откуда я взял эти глаза? Я засыпаю.
Вот так я умирал, ещё не зная никакой любви, кроме любви к матери и – по убывающей – к другим родным. А за окном – за изрядно законопаченным окном, между рамами которого лежала вата, а на стекле ещё оставались следы приклеенных когда-то прежними хозяевами бумажных снежинок – продолжалась весна. Из-под окна, от батареи, веяло сухим жаром, и этот жар был для меня равноценен дыханию смерти. Перед закрытыми глазами было красно, и я мог вообразить себе ад. Но с чего это было мне попадать туда? Вообще ад мне тогда казался забавным – какие-то котлы, черти, кипящие в котлах грешники. Особенно интересно – насколько я помню, в Русском Музее – было рассматривать иконы с изображением ада. У каждого чёрта – своё имя, которое тут же написано. Я всё пытался сосчитать, сколько же там их в аду должно было числиться, этих чертей. Был бес с именем «Болезнь», был с именем «Смерть», был «Сатана» – внешне все мало чем друг от друга отличались. Меня мучила мысль о несоответствии значимости хотя бы этих трёх наименованных понятий, я уж не говорю о совершенно не понятном мне тогда «Блуде» – не помню даже, был ли там такой или я его только сейчас предполагаю.
Болезнь – конечно – вещь неприятная, но от неё далеко не всегда умирают. Смерть – это ведь куда более всеобъемлюще, это всё, конец. Как можно частную маленькую болезнь изображать рядом с огромной всеобщей смертью одними красками? Это вызывало у меня недоумение. Неужели эти иконописцы были такие дураки? А «Сатана» – он же вообще самый главный из чертей, он, наверное, должен быть даже главнее «Смерти». Хотя и это вызывало у меня сомнения. Что такое смерть я себе вполне мог представить. Что такое сатана, который главнее смерти – нет. Ну были бы они хоть по размеру все очень разные – а то – черти как черти… Скушно, в конце концов. Неужели – таков ад? Не хотел бы я туда попасть.
Кажется пока я болел, выпадал снег. Потом опять растаял. За окном пели какие-то птички, наверное воробьи. Их почти не было слышно, потому что у меня стучало в висках. Понимал ли я, что умираю? Понимал ли на самом деле? Если бы я заболел теперь, понимал бы я хоть на чуть-чуть больше? Мне кажется, тогда я был ближе к смерти, чем теперь. Смерть представлялась мне более понятной и убедительной. Почему я тогда не умер? Может быть, это было неправильно? Неужели – Господь оставил меня на земле только для того, чтобы я познал Любовь? Ту самую Любовь, намёк на которую я ухитрился разглядеть в грязной луже.
Интерлюдия (У моря)
"Всякий раз, когда я собираюсь сделать такое движение, у меня темнеет в глазах…"
С.Кьеркегор
И дальше всё развивалось с потрясающей динамикой, с динамикой, не щадящей ни моей души, ни моего сознания – если только это суть разные вещи.
То, что происходило, невозможно описать, как невозможно описать море. Т.е. море можно описывать сколько угодно. Но я ведь не Айвазовский.
Попробуем нырнуть в глубину – авось и вынырнем. Или хоть увидим что-нибудь, захлёбываясь, в предсмертном видении. Или наплаваемся для начала вдоволь на утлой лодчонке, чтобы в результате всё-таки утонуть. Ибо когда видишь перед собой море, и слышишь его шум и ощущаешь запах – ты должен расстаться с надеждой. Отныне – всё только в руках Творца, в ты – слаб и одинок как щепка. Отдай же себя волнам. Отдай – если уже не можешь оставаться на берегу.
Армия
"Духовная битва так же свирепа, как сражения армий…"
А.Рембо
Я опять выныриваю в некие военные времена. Нас, мальчиков строят в каком-то школьном спортивном зале. По-моему это ещё не армия, а… забыл как называется. Да, кажется, боевая подготовка.
Сперва нас одели во вполне современные камуфляжные костюмы, и мы с непривычки всё никак не могли построиться по росту. Тут было согнано довольно много народа из разных школ. А у всякого ведь свои амбиции – внутри собственного коллектива и то непросто приспособиться, а тут. Кто-то считает, что он выше, потому что сильнее, другой – потому что умнее, кто-то не уверен, кто-то – просто упрямый идиот… В общем, все толкаются локтями и плечами – того гляди подерутся. Мне не то, чтобы так уж хочется стоять первым – я отнюдь не высок и не люблю бросаться в глаза начальникам. Однако, я не хочу быть и последним – ведь не я, в конце концов, самый маленький. Тут, смотрите, из других школ полным-полно коротышек!..
Нас так и не успели правильно построить, потому что пришёл приказ переодеваться. Оказалось, что нам не полагается солдатская одежда, а полагается какая-то совершенно другая, какую мы в глаза не видели, специально для смотра. Мы, мол, ещё не защитники Родины, а только собираемся ими стать – стало быть, должны отличаться и по форме.
Опять долгие перемещения по неуютным широким коридорам. Толчки в спину, отдавленные ноги… Никто не понимает куда. Никто толком не говорит. Все бредут как бараны. А пастух ведёт себя так, словно обкурился травы.
Наконец, несколько раз бесполезно сменив направление, мы оказываемся на каком-то большом складе. Здесь пахнет мылом и стиральным порошком, люминесцентные лампы неприятно потрескивают. Я всё время теряю из виду какие-нибудь хоть отчасти знакомые спины. Любой же из чужаков может оказаться врагом.
Некий прапорщик, может быть, офицер, направляет нас, взявши за плечи, влево, впрочем, довольно нежно. До этого мы стояли на месте в прострации и смотрели в потолок, приоткрыв слюнявые рты.
Мы идём влево, пока не упираемся в тупик. На стеллажах лежат иссера-белые тряпки – очевидно, подразумевается постельное бельё.
Тётенька с глазами, изрядно замутнёнными катарактой, появляется нам навстречу. Вернее, мы замечаем её перед собой, наконец перенастроив устремлённые в даль зрачки.
– Что брать? – спрашивает кто-то.
– А зачем вас прислали? – спрашивает шамкающая старушка.
Мы переглядываемся. Ещё несколько минут назад предполагалась какая-то амуниция. Мы даже не заметили, как нас опять раздели – стоим в одних трусах и носках на холодном полу.
– Нам бы одеться, – говорит кто-то.
– А спать вы как будете? – спрашивает бабушка.
Мы пожимаем плечами, опять переглядываясь. Плечи у многих уже покрылись мурашками.
– Берите наматрасники, – говорит старушка.
Мы хотим спросить, что это, но никто не желает показывать некомпетентность.
– Где они? – спрашивает кто-то.
– Вон там, – указывает бабка.
Мы лезем на стеллажи и снимаем оттуда несколько стопок «наматрасников».