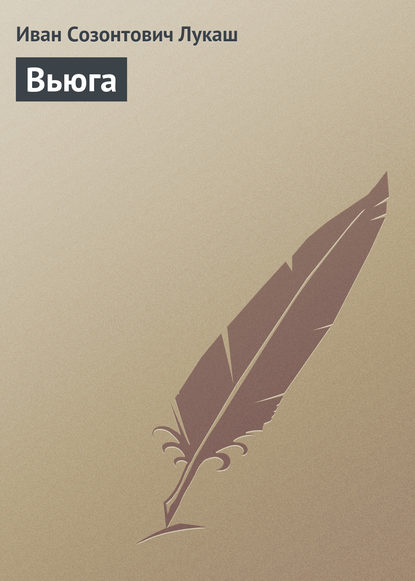По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вьюга
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А в чуланце ниже этажом, в холодной темноте, с поджатыми руками, вытянувши холодные ноги, лежало то, что еще утром было матерью.
Каждый раз, когда умирает человек, вместе с ним умолкает не разгаданный никем мир, вся вселенная, какую он, живой, носил в себе. Умерла и вселенная матери. И горсть праха, не нужного никому, осталась от нее, рассыпанные на ободранном кресле фотографии, пожелтевшие письма и метрики детей, искусственные цветы и кукольная коробка с венчальными свечами…
На другой день приехала Ольга в расшатанном автомобиле, с нею два господина, выбритые, как актеры, в рабочих кепках и в хороших пальто. Они остались ждать у дома.
В дверях Ольга встретила Таню Вегенер, которая только что прибрала покойницу. Ольга не поднялась наверх, когда узнала о смерти, сказала, что очень спешит, пришлет кого надо отвезти мать на кладбище. Она бежала из дома.
Пашка узнал, что сестра была внизу и бросился за нею вдогонку, накидывая на бегу шинельку.
Катя и Костя чувствовали, что это тщедушное существо с карими глазами, в серой шинельке, дядя Паша, единственное существо, кто теперь может защитить их на свете.
Едва он брал шапку, Катя молча начинала обвертывать вокруг головы материнский платок, какой перешел к ней по наследству, и совала покорные ручки Кости в рукава его пальтишка, подбитого истрепанным барашком. Дети всюду ходили за ним по пятам.
Он выбежал на улицу, волосы хватило холодом. Автомобиль ушел. Он постоял на панели и вернулся назад. По обледенелой темной лестнице навстречу ему торопливо спускалась Катя с Костей на руках.
– Ну куда ты идешь, – с досадой сказал Пашка. – Почему вы ходите за мной?
Катя поставила свою ношу, калоши мальчика стукнули слегка. Девочка передохнула, потупилась. Она не умела сказать, почему ходит за ним.
– Идите домой.
Костя старательно забирался на скользкие ступеньки, сопел. На площадке они остановились. Сердце Пашки билось часто и гулко. Ему стало невыносимо слушать порывистое дыхание детей и что горячие глаза Кати смотрят на него покорно, что все они голодны, оборваны, грязны и он не знает, что будет теперь с ними на свете.
В этой глухой девочке, с желтоватым, немного татарским лицом, преданной и безмолвной, было что-то материнское, самое дорогое, жалостное неизъяснимо. Он тронул ее холодный платок:
– Устала. Ничего, дойдем.
Катя неловко уткнулась лицом в его шинель. Так они отдохнули.
За матерью к сумеркам приехали дровни, запряженные голенастой кобылой с крутыми ребрами. На дровнях – больничный гроб из трех желтых досок. Его прислала Ольга. Она писала Тане Вегенер, что Костю лучше всего отправить в деревню, к Аглае Сафоновой, и приложила денег на дорогу.
Морозный дым ходил на пустом проспекте. Костя скоро устал идти за дровнями, начал ныть. Его нес на руках Пашка, потом Катя, снова Пашка, до того, что руки у него стали дрожать. Он поставил мальчика в снег и сказал:
– Чего же идти. Все равно.
Ломовой извозчик обернулся, покивал им головой.
– Прощай, мама, – сказал Пашка.
Горячие черные глаза Кати смотрели в туман, губы девочки шевелились. Она не плакала, но глаза были полны слез. Он тронул ее за холодный рукав:
– Пойдем, Катя. Чего же стоять. Пойдем…
Глава XIX
Таня Вегенер все делала в эти дни с четкостью, мыла ли в эмалированной чашке на столе свою девочку, бегала ли в очереди или помогала наверху теткам-музыкантшам.
Легкая, длинноногая, худая, с родинками на щеке, она была похожа широкими движениями на легавую. Кажется, все ее решения и мысли были теперь ясны, пронзительно отчетливы, как движения.
Только левый глаз стал косить после ареста Отто, и точно лопнули в нем от страшного напряжения ветви жилок. Вопиющее, немое билось в ее косящем глазу, прозрачном сбоку.
Таня Вегенер ни себе, ни другим как бы не давала очнуться, подумать о том, что случилось со всеми и с Отто. Она тормошила себя и всех. Так и Пашке она объявила, что переезжает к теткам, что уже перетащила наверх арапа из прихожей. Пашка потупился и сказал, что тогда ему самое лучшее – как можно скорее отвезти детей в деревню, к Аглае, и покраснел от радости, что увидит строгую Любу.
Вегенер отдала ему Ольгины деньги и еще достала, кажется, под материнские вещи и шубу. Он взял на дорогу обручальные кольца, золотенькие крестики в папиросной бумаге, набил сундучок бельем. Николай оставил романовский полушубок, Пашка сменил на него шинельку. Надо было достать пропуск, без него из Петербурга не выпускали.
Он никогда не пошел бы к Ванятке Кононову, потому что за годы революции ничто, кроме смерти матери, не поранило его глубже, чем та встреча с Ваняткой, когда Пашка оказался буржуем и оба побелели от ненависти. Ванятка спутался с большевиками, и такое предательство товарища подкосило Пашку. Ванятка, как все большевики, – его нещадный враг. Вся советская власть, с голодом, обысками, расстрелами, Смольным, «Известиями», едет на таких Ванятках, сдуру поверивших разной сволочи, – Урицким и Склянским, и по их указке истребляет беспощадно таких невинных, как он, Пашка, с их отцами и матерями, всех русских Пашек.
Но Ванятка был единственной надеждой вырваться из Питера, и Пашка решил пойти к врагу.
Первый, кого он увидел у слесаря, был Ванятка в осеннем пальто и кепке, с папиросой, сидящий на отцовском верстаке.
Сам слесарь ходил по мастерской, по железным стружкам, которые скрипели под ногами. В углу за занавеской, где у них стояла чудесная бадья с рукомойником и была необъятная русская печь, сидела Ваняткина мать. Бадья, чан огромный и добродушный, памятный с детских лет, был на месте, те же иконы в другой комнате, очень чистой, горка красных подушек на кровати, цветочные горшки на окне, на полу, на скамеечках лесенкой. Только цветы Ваняткиной матери посохли, и была холодна, в трещинах, потемневшая русская печь.
– Здравствуй, Пашенька, родной, – пропела Параскева Кондратьевна, точно только вчера он был у них и ничего не случилось со всеми.
– Здравствуйте.
Он стал стягивать чухонскую шапку.
– Вот и Павел скажет, что правду говорю, – строго, поверх очков, посмотрел на него слесарь.
– Полно тебе, батька.
Ванятка прыгнул с верстака. До прихода Пашки он спорил с отцом сумрачно, упрямо и дерзко.
– Чего полно? Как небось пришел хороший человек, так стыдно стало.
– Не стыдно, а оставь, говорю…
– Да как оставить, когда ты мастерство бросил. У матки-батьки не живешь, по собраниям языком вертишь. Секретарь заводского комитета, партейный. Вона в какие люди вышел. С самой сволотой спутался, секретарь.
– Да батька, будет, говорю, лаяться. Ванятка обернулся с раздражением к Пашке:
– А вы, собственно, зачем пришли?
– Сами посудите, – обернулся к Пашке и слесарь. – Вы, говорит, в подвале живете. А я вас в барской квартире хочу поселить. На Сергиевской рабочих вселяют. Обрадовал. А ты меня спросил, сукин сын, хочу я с тобой разбоем заниматься? Это мы тебя с матерью, выходит, разбою учили, чтобы нас на Сергиевскую вселять? Я тридцать лет в этом подвале с матерью живу. Я тебя тут растил. А ваши до чего довели? С голоду дохнем. Матка, смотри, только и есть, что ревет.
– Да дай же, отец, ему слово сказать, чего разоряешься?
Слесарь посмотрел на Пашку поверх очков и замолчал.
– У меня, собственно, дело к тебе, – Пашка поправился, – к вам… Большая просьба. Вы знаете, мать умерла, и я хочу детей в деревню отвезти. Что же тут с ними делать? К Аглае Сергеевне.
Он говорил сдержанно, холодно. Ванятке, плотному черноволосому юноше, льстило, что Маркушин, с которым он расстался смертельным врагом, теперь просит его:
– Я бы с моим удовольствием вам устроил, да я нынче еду в Москву. Постойте, да вы к товарищу Виктору пойдите. Он все может.
– Это Витя Косичкин?
Каждый раз, когда умирает человек, вместе с ним умолкает не разгаданный никем мир, вся вселенная, какую он, живой, носил в себе. Умерла и вселенная матери. И горсть праха, не нужного никому, осталась от нее, рассыпанные на ободранном кресле фотографии, пожелтевшие письма и метрики детей, искусственные цветы и кукольная коробка с венчальными свечами…
На другой день приехала Ольга в расшатанном автомобиле, с нею два господина, выбритые, как актеры, в рабочих кепках и в хороших пальто. Они остались ждать у дома.
В дверях Ольга встретила Таню Вегенер, которая только что прибрала покойницу. Ольга не поднялась наверх, когда узнала о смерти, сказала, что очень спешит, пришлет кого надо отвезти мать на кладбище. Она бежала из дома.
Пашка узнал, что сестра была внизу и бросился за нею вдогонку, накидывая на бегу шинельку.
Катя и Костя чувствовали, что это тщедушное существо с карими глазами, в серой шинельке, дядя Паша, единственное существо, кто теперь может защитить их на свете.
Едва он брал шапку, Катя молча начинала обвертывать вокруг головы материнский платок, какой перешел к ней по наследству, и совала покорные ручки Кости в рукава его пальтишка, подбитого истрепанным барашком. Дети всюду ходили за ним по пятам.
Он выбежал на улицу, волосы хватило холодом. Автомобиль ушел. Он постоял на панели и вернулся назад. По обледенелой темной лестнице навстречу ему торопливо спускалась Катя с Костей на руках.
– Ну куда ты идешь, – с досадой сказал Пашка. – Почему вы ходите за мной?
Катя поставила свою ношу, калоши мальчика стукнули слегка. Девочка передохнула, потупилась. Она не умела сказать, почему ходит за ним.
– Идите домой.
Костя старательно забирался на скользкие ступеньки, сопел. На площадке они остановились. Сердце Пашки билось часто и гулко. Ему стало невыносимо слушать порывистое дыхание детей и что горячие глаза Кати смотрят на него покорно, что все они голодны, оборваны, грязны и он не знает, что будет теперь с ними на свете.
В этой глухой девочке, с желтоватым, немного татарским лицом, преданной и безмолвной, было что-то материнское, самое дорогое, жалостное неизъяснимо. Он тронул ее холодный платок:
– Устала. Ничего, дойдем.
Катя неловко уткнулась лицом в его шинель. Так они отдохнули.
За матерью к сумеркам приехали дровни, запряженные голенастой кобылой с крутыми ребрами. На дровнях – больничный гроб из трех желтых досок. Его прислала Ольга. Она писала Тане Вегенер, что Костю лучше всего отправить в деревню, к Аглае Сафоновой, и приложила денег на дорогу.
Морозный дым ходил на пустом проспекте. Костя скоро устал идти за дровнями, начал ныть. Его нес на руках Пашка, потом Катя, снова Пашка, до того, что руки у него стали дрожать. Он поставил мальчика в снег и сказал:
– Чего же идти. Все равно.
Ломовой извозчик обернулся, покивал им головой.
– Прощай, мама, – сказал Пашка.
Горячие черные глаза Кати смотрели в туман, губы девочки шевелились. Она не плакала, но глаза были полны слез. Он тронул ее за холодный рукав:
– Пойдем, Катя. Чего же стоять. Пойдем…
Глава XIX
Таня Вегенер все делала в эти дни с четкостью, мыла ли в эмалированной чашке на столе свою девочку, бегала ли в очереди или помогала наверху теткам-музыкантшам.
Легкая, длинноногая, худая, с родинками на щеке, она была похожа широкими движениями на легавую. Кажется, все ее решения и мысли были теперь ясны, пронзительно отчетливы, как движения.
Только левый глаз стал косить после ареста Отто, и точно лопнули в нем от страшного напряжения ветви жилок. Вопиющее, немое билось в ее косящем глазу, прозрачном сбоку.
Таня Вегенер ни себе, ни другим как бы не давала очнуться, подумать о том, что случилось со всеми и с Отто. Она тормошила себя и всех. Так и Пашке она объявила, что переезжает к теткам, что уже перетащила наверх арапа из прихожей. Пашка потупился и сказал, что тогда ему самое лучшее – как можно скорее отвезти детей в деревню, к Аглае, и покраснел от радости, что увидит строгую Любу.
Вегенер отдала ему Ольгины деньги и еще достала, кажется, под материнские вещи и шубу. Он взял на дорогу обручальные кольца, золотенькие крестики в папиросной бумаге, набил сундучок бельем. Николай оставил романовский полушубок, Пашка сменил на него шинельку. Надо было достать пропуск, без него из Петербурга не выпускали.
Он никогда не пошел бы к Ванятке Кононову, потому что за годы революции ничто, кроме смерти матери, не поранило его глубже, чем та встреча с Ваняткой, когда Пашка оказался буржуем и оба побелели от ненависти. Ванятка спутался с большевиками, и такое предательство товарища подкосило Пашку. Ванятка, как все большевики, – его нещадный враг. Вся советская власть, с голодом, обысками, расстрелами, Смольным, «Известиями», едет на таких Ванятках, сдуру поверивших разной сволочи, – Урицким и Склянским, и по их указке истребляет беспощадно таких невинных, как он, Пашка, с их отцами и матерями, всех русских Пашек.
Но Ванятка был единственной надеждой вырваться из Питера, и Пашка решил пойти к врагу.
Первый, кого он увидел у слесаря, был Ванятка в осеннем пальто и кепке, с папиросой, сидящий на отцовском верстаке.
Сам слесарь ходил по мастерской, по железным стружкам, которые скрипели под ногами. В углу за занавеской, где у них стояла чудесная бадья с рукомойником и была необъятная русская печь, сидела Ваняткина мать. Бадья, чан огромный и добродушный, памятный с детских лет, был на месте, те же иконы в другой комнате, очень чистой, горка красных подушек на кровати, цветочные горшки на окне, на полу, на скамеечках лесенкой. Только цветы Ваняткиной матери посохли, и была холодна, в трещинах, потемневшая русская печь.
– Здравствуй, Пашенька, родной, – пропела Параскева Кондратьевна, точно только вчера он был у них и ничего не случилось со всеми.
– Здравствуйте.
Он стал стягивать чухонскую шапку.
– Вот и Павел скажет, что правду говорю, – строго, поверх очков, посмотрел на него слесарь.
– Полно тебе, батька.
Ванятка прыгнул с верстака. До прихода Пашки он спорил с отцом сумрачно, упрямо и дерзко.
– Чего полно? Как небось пришел хороший человек, так стыдно стало.
– Не стыдно, а оставь, говорю…
– Да как оставить, когда ты мастерство бросил. У матки-батьки не живешь, по собраниям языком вертишь. Секретарь заводского комитета, партейный. Вона в какие люди вышел. С самой сволотой спутался, секретарь.
– Да батька, будет, говорю, лаяться. Ванятка обернулся с раздражением к Пашке:
– А вы, собственно, зачем пришли?
– Сами посудите, – обернулся к Пашке и слесарь. – Вы, говорит, в подвале живете. А я вас в барской квартире хочу поселить. На Сергиевской рабочих вселяют. Обрадовал. А ты меня спросил, сукин сын, хочу я с тобой разбоем заниматься? Это мы тебя с матерью, выходит, разбою учили, чтобы нас на Сергиевскую вселять? Я тридцать лет в этом подвале с матерью живу. Я тебя тут растил. А ваши до чего довели? С голоду дохнем. Матка, смотри, только и есть, что ревет.
– Да дай же, отец, ему слово сказать, чего разоряешься?
Слесарь посмотрел на Пашку поверх очков и замолчал.
– У меня, собственно, дело к тебе, – Пашка поправился, – к вам… Большая просьба. Вы знаете, мать умерла, и я хочу детей в деревню отвезти. Что же тут с ними делать? К Аглае Сергеевне.
Он говорил сдержанно, холодно. Ванятке, плотному черноволосому юноше, льстило, что Маркушин, с которым он расстался смертельным врагом, теперь просит его:
– Я бы с моим удовольствием вам устроил, да я нынче еду в Москву. Постойте, да вы к товарищу Виктору пойдите. Он все может.
– Это Витя Косичкин?
Другие электронные книги автора Иван Созонтович Лукаш
«Вопль» Бердяева




 4.67
4.67
Генерал Духонин




 4.67
4.67