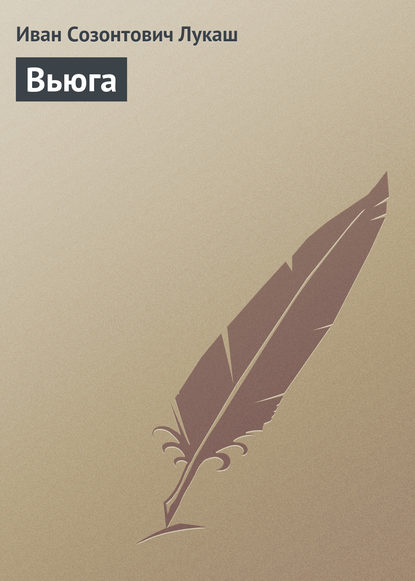По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вьюга
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Та же рваная шуба на сундуке, на полу лампа, книги, угол, заставленный «Волгой», где он спал на двух ободранных креслах. У железной печки посреди чулана пол прожжен угольями.
За стеной что-то переставляли новые жильцы. Мать дышала часто и коротко. Она посмотрела на него без удивления, она была поглощена тем, что горит в ней. Седые волосы сбились на подушке. Мать лежала одетая. Пашка поглядел на ее тощие ноги в черных шерстяных чулках, и показалось, что где-то видел это.
– Здравствуйте, мама.
Мать обдала его горячим дыханием. Ее губы были совершенно сухи, обветрены жаром.
– Мама, вы нездоровы. Был доктор? Горящие глаза матери стали краснеть:
– Вселили. Весь дом разорили…
Как будто из-за того, что вселили чужих, что заняли кабинет отца, ее кладовку, что чужие люди ходят, стучат за стеной, она и заболела.
– Ну что, пусть вселили. Я говорю, доктор был? Мать непонятно посмотрела на него и отвернулась. Катя, крепко повязанная платком, ходила среди хлама и рухляди. Чулан, вероятно, казался ей огромным миром, другого и не бывает.
В жестяную помятую чашку с водой и льдом она выжимала грязное полотенце, она прикладывала его на лоб бабыньке. Мать каждый раз смотрела на нее благодарно.
Катя совершенно бесшумно хлопотала весь день. Это она настирала столько юбок, простынь и рваных чулок, развешанных в коридоре и в чулане. Она носила воду со двора из чана в прачечной ведрами, она поила бабыньку липовым чаем, стояла в очередях за осьмушкой вязкого хлеба и за картошкой, которую пекла для всех троих на железной печурке. Ничто не утомляло ее, как будто все, что она делала, было одной огромной, иногда трудной, но бесконечной игрой.
– Дядя Паша, надо воды принести.
Пашка молча кивнул головой.
– И за керосином стоять, может, выдадут.
– Хорошо.
Он стал собираться, но мать позвала, часто дыша:
– Паша, куда?
– Я за водой.
– Останься… Николай-то уехал… В Москве место лучше дали. Бросил мать.
– Ну что вы, вернется.
– Не вернется. И Ольга ушла… Ольгунька… Все мать бросают.
– Но, мама, я думаю, Коля напишет.
– Ничего не напишет. Поди за водой-то…
Пашка послушал ее частое дыхание и на носках, с ведром вышел из чулана.
Задний двор, где он брал воду, был как холм чистого снега. От деревянного сарая не осталось и следа. Все было пусто и бело, только у обледеневшей стены соседнего дома стояла та же, памятная с детства, кровать, изгнивший железный скелет в пороше. Сердце Пашки сжалось, когда он увидел белый пустырь, волшебно смутный мир детства, теперь бездыханный.
Когда он с ведром шел назад, бывший хозяин «Чая. Сахара. Кофе», всклокоченный, с потемневшим лицом, тащил за собою по двору санки с мешками. Пашка знал, что хозяина брали под арест, выпускали, снова отводили в Чека, все у него было отобрано, магазин заколочен, Аполлинарий его умер от голода, а обнищавший хозяин жил теперь в подвале, в углу.
Точно дальний сон, дуновение света, вспомнил Пашка ночь заутрени, как Аполлинарий сидел в бархатном креслице с горящей свечой.
Он принес воду, потом промерз в очереди, куда Катя послала его. По дороге домой он грыз мерзлый картофель, хрустевший на зубах.
Мать лежала с красноватым лицом, такая же непонятная. За дверью у новых жильцов ходили, стучали, тренькала гитара.
Пашка сидел у остывшей железной печки, слушал, как потрескивает в стенах мороз, быстро дышит мать. Костя с Катей поджались на кресле, грелись под платком. «Птицы, – подумал Пашка и вспомнил Любу. – Мы одни на свете».
Вечером на двор приходили красноармейцы, увели сапожника Потылицына.
Сапожник шел без шапки, в опорках на босу ногу, в дрянном пальтишке. Он подпрыгивал боком, выкрикивал:
– Гады, не боюсь. Сам пролетарьят, гады…
Он не был пьян, глаза сухо горели, и было страшным бледное его лицо, обросшее черной, с проседью, бородой.
А утром к Маркушиным пришла Таня Вегенер с девочкой на руках. Она была в своем переднике из сарпинки, чистая, с гладко зачесанными волосами. Она сказала Кате:
– Отто арестовали.
Катя переморгнула ресницами. То же Вегенер сказала Пашке, коловшему у печки ножку кресла. У него замерло сердце: «Так, значит, не выбраться отсюда».
– Отто арестовали, – повторила Таня и матери. Пашка заметил, что один глаз Тани начал косить, точно был неживой или остекленел. Ему невыносимо было смотреть на этот прозрачный человеческий глаз в тончайших красноватых жилках.
Таня постояла молча, потом ушла с девочкой наверх, к теткам, где, грея в руках ножки дочери, она повторит тот же рассказ, как пришли трое, стали спрашивать Отто, бывал ли на Выборгской у Пермияйнена, как Отто сказал, что бывал, и что взяли в утреннем пиджаке и в туфлях.
В замолкшем, потемневшем доме, где все измерзло и погасло, шевелилось теперь одно истребление: там добивали живых. В этом городе, в этой стране всеми правило небылье, голод и террор, и добивали живых.
Утром Пашке показалось, что мать переменилась. С ее заглохшего жесткого лица точно сошла темная корка: лицо ожило, помолодело, стало слышащим и светящимся, как когда-то. Глаза горячо сияли от жара.
Он подумал, что мать поправляется, не поверил себе, а мать позвала его легко, радостно, как звала маленького:
– Пашуня, сыночек.
От ее голоса ему стало страшно и больно.
– Мама, вам лучше?
Он тронул руку, обдавшую огнем. От матери шло горячее дуновение, и он понял, что она не поправляется, а непонятное уже побеждает ее:
– Мама, что вы…
– Пашуня, под подушкой, – порывисто пробормотала мать. – В ящике, в головах. Дай сюда…
Под подушкой он нашел ордена отца, завернутые в папиросную бумагу, едва позвеневшие, и фотографии.
Ордена были Станислава и Анны, фотографии всех домашних: одна, поблекшего табачного цвета, мать молодая, в шиньоне, в платье с турнюром, стоит, а отец, в широком сюртуке и в тупоносых башмаках, сидит в кресле. За ними намалеван серый парк, под фотографией – гирлянда золотых медалек и выцветшая надпись: «Фотография Соловьева у Синего моста».
В свертке были карточки его и Ольги, он в матроске, ему лет восемь, а Ольга в смешной шапочке с птичьим крылышком и в гимназическом переднике, Николай в студенческом мундире, волосы ежом, пожелтевшие метрики, пачка писем, счета и отдельно тоненькие крестильные крестики, порванная серебряная цепочка и обручальное кольцо отца: целый мир, утихший и святой, завернутый в прозрачную бумагу.
За стеной что-то переставляли новые жильцы. Мать дышала часто и коротко. Она посмотрела на него без удивления, она была поглощена тем, что горит в ней. Седые волосы сбились на подушке. Мать лежала одетая. Пашка поглядел на ее тощие ноги в черных шерстяных чулках, и показалось, что где-то видел это.
– Здравствуйте, мама.
Мать обдала его горячим дыханием. Ее губы были совершенно сухи, обветрены жаром.
– Мама, вы нездоровы. Был доктор? Горящие глаза матери стали краснеть:
– Вселили. Весь дом разорили…
Как будто из-за того, что вселили чужих, что заняли кабинет отца, ее кладовку, что чужие люди ходят, стучат за стеной, она и заболела.
– Ну что, пусть вселили. Я говорю, доктор был? Мать непонятно посмотрела на него и отвернулась. Катя, крепко повязанная платком, ходила среди хлама и рухляди. Чулан, вероятно, казался ей огромным миром, другого и не бывает.
В жестяную помятую чашку с водой и льдом она выжимала грязное полотенце, она прикладывала его на лоб бабыньке. Мать каждый раз смотрела на нее благодарно.
Катя совершенно бесшумно хлопотала весь день. Это она настирала столько юбок, простынь и рваных чулок, развешанных в коридоре и в чулане. Она носила воду со двора из чана в прачечной ведрами, она поила бабыньку липовым чаем, стояла в очередях за осьмушкой вязкого хлеба и за картошкой, которую пекла для всех троих на железной печурке. Ничто не утомляло ее, как будто все, что она делала, было одной огромной, иногда трудной, но бесконечной игрой.
– Дядя Паша, надо воды принести.
Пашка молча кивнул головой.
– И за керосином стоять, может, выдадут.
– Хорошо.
Он стал собираться, но мать позвала, часто дыша:
– Паша, куда?
– Я за водой.
– Останься… Николай-то уехал… В Москве место лучше дали. Бросил мать.
– Ну что вы, вернется.
– Не вернется. И Ольга ушла… Ольгунька… Все мать бросают.
– Но, мама, я думаю, Коля напишет.
– Ничего не напишет. Поди за водой-то…
Пашка послушал ее частое дыхание и на носках, с ведром вышел из чулана.
Задний двор, где он брал воду, был как холм чистого снега. От деревянного сарая не осталось и следа. Все было пусто и бело, только у обледеневшей стены соседнего дома стояла та же, памятная с детства, кровать, изгнивший железный скелет в пороше. Сердце Пашки сжалось, когда он увидел белый пустырь, волшебно смутный мир детства, теперь бездыханный.
Когда он с ведром шел назад, бывший хозяин «Чая. Сахара. Кофе», всклокоченный, с потемневшим лицом, тащил за собою по двору санки с мешками. Пашка знал, что хозяина брали под арест, выпускали, снова отводили в Чека, все у него было отобрано, магазин заколочен, Аполлинарий его умер от голода, а обнищавший хозяин жил теперь в подвале, в углу.
Точно дальний сон, дуновение света, вспомнил Пашка ночь заутрени, как Аполлинарий сидел в бархатном креслице с горящей свечой.
Он принес воду, потом промерз в очереди, куда Катя послала его. По дороге домой он грыз мерзлый картофель, хрустевший на зубах.
Мать лежала с красноватым лицом, такая же непонятная. За дверью у новых жильцов ходили, стучали, тренькала гитара.
Пашка сидел у остывшей железной печки, слушал, как потрескивает в стенах мороз, быстро дышит мать. Костя с Катей поджались на кресле, грелись под платком. «Птицы, – подумал Пашка и вспомнил Любу. – Мы одни на свете».
Вечером на двор приходили красноармейцы, увели сапожника Потылицына.
Сапожник шел без шапки, в опорках на босу ногу, в дрянном пальтишке. Он подпрыгивал боком, выкрикивал:
– Гады, не боюсь. Сам пролетарьят, гады…
Он не был пьян, глаза сухо горели, и было страшным бледное его лицо, обросшее черной, с проседью, бородой.
А утром к Маркушиным пришла Таня Вегенер с девочкой на руках. Она была в своем переднике из сарпинки, чистая, с гладко зачесанными волосами. Она сказала Кате:
– Отто арестовали.
Катя переморгнула ресницами. То же Вегенер сказала Пашке, коловшему у печки ножку кресла. У него замерло сердце: «Так, значит, не выбраться отсюда».
– Отто арестовали, – повторила Таня и матери. Пашка заметил, что один глаз Тани начал косить, точно был неживой или остекленел. Ему невыносимо было смотреть на этот прозрачный человеческий глаз в тончайших красноватых жилках.
Таня постояла молча, потом ушла с девочкой наверх, к теткам, где, грея в руках ножки дочери, она повторит тот же рассказ, как пришли трое, стали спрашивать Отто, бывал ли на Выборгской у Пермияйнена, как Отто сказал, что бывал, и что взяли в утреннем пиджаке и в туфлях.
В замолкшем, потемневшем доме, где все измерзло и погасло, шевелилось теперь одно истребление: там добивали живых. В этом городе, в этой стране всеми правило небылье, голод и террор, и добивали живых.
Утром Пашке показалось, что мать переменилась. С ее заглохшего жесткого лица точно сошла темная корка: лицо ожило, помолодело, стало слышащим и светящимся, как когда-то. Глаза горячо сияли от жара.
Он подумал, что мать поправляется, не поверил себе, а мать позвала его легко, радостно, как звала маленького:
– Пашуня, сыночек.
От ее голоса ему стало страшно и больно.
– Мама, вам лучше?
Он тронул руку, обдавшую огнем. От матери шло горячее дуновение, и он понял, что она не поправляется, а непонятное уже побеждает ее:
– Мама, что вы…
– Пашуня, под подушкой, – порывисто пробормотала мать. – В ящике, в головах. Дай сюда…
Под подушкой он нашел ордена отца, завернутые в папиросную бумагу, едва позвеневшие, и фотографии.
Ордена были Станислава и Анны, фотографии всех домашних: одна, поблекшего табачного цвета, мать молодая, в шиньоне, в платье с турнюром, стоит, а отец, в широком сюртуке и в тупоносых башмаках, сидит в кресле. За ними намалеван серый парк, под фотографией – гирлянда золотых медалек и выцветшая надпись: «Фотография Соловьева у Синего моста».
В свертке были карточки его и Ольги, он в матроске, ему лет восемь, а Ольга в смешной шапочке с птичьим крылышком и в гимназическом переднике, Николай в студенческом мундире, волосы ежом, пожелтевшие метрики, пачка писем, счета и отдельно тоненькие крестильные крестики, порванная серебряная цепочка и обручальное кольцо отца: целый мир, утихший и святой, завернутый в прозрачную бумагу.
Другие электронные книги автора Иван Созонтович Лукаш
«Вопль» Бердяева




 4.67
4.67
Генерал Духонин




 4.67
4.67