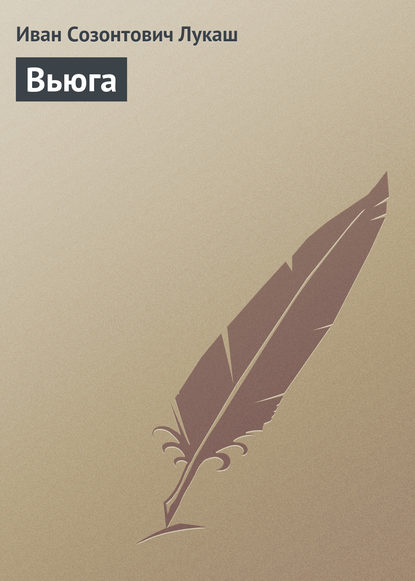По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вьюга
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Катя и Костя точно ждали ее крика. Девочка жалобно завыла. Пашка стоял за матерью, с силой вдыхая от ее тощих плеч запах снега, смешанный с холодным запахом керосина.
Николай передохнул, одернул шведскую куртку. Его руки дрожали:
– Думаешь, если брат, я буду с тобой возиться. Не такое, брат, время. Стоит только слово сказать, чтобы тебя, мерзавца, взяли. Тоже белогвардеец нашелся.
Пашка сплюнул кровь:
– Доноси. Ты все можешь.
– Буду я со всякой дрянью мараться. А вот вы, мамаша, знайте…
Николай со злобной грубостью повернулся к матери:
– И на носу зарубите. Если хотите, чтобы я помогал, если не хотите подохнуть с голоду, выбирайте или его, бродягу, или меня. А я с ним под одной крышей не останусь.
– Испугал, – подернул худыми плечами Пашка. – Подумаешь…
Он потянул со спинки кресла гимназическую шинельку, поискал чухонскую шапку. То, что он надевает шапку, что рассечена губа, гонят из дому, – все показалось ему похожим на театр, в чем-то не настоящим, и он, тряхнувши головой, по-театральному, сказал:
– Когда из отцовского дома гонят, я и сам уйду.
– Да ты погоди, Паша…
– Оставьте, мама, пожалуйста.
– Паша, погоди. Проси у брата прощения.
Мать шла за ним, но ему так не хотелось, чтобы мать его вернула и переменилась роль сына, изгоняемого из отцовского дома, что он с удовольствием хлопнул за собою дверью на лестницу, вбежал по ступенькам на верхнюю площадку, и там притаился.
Через мгновение мать открыла дверь, позвала:
– Паша…
Он слышал, как она сошла по ступенькам, постояла на нижней площадке, потом медленно вернулась наверх. Мать закинула цепочку и заперла дверь. Он сел на подоконник, не зная, что делать дальше и куда идти.
Глава XVII
Внизу далеко стукнула дворовая дверь.
– Вот так, вот так, – услышал Пашка. К себе подымался Вегенер с дочерью. Девочка в красном капоре осторожно перебирала ножками, лепетала, подражая отцу:
– Вот так.
Голос отца и лепет ребенка как будто были теми же голосами, что восемьдесят и сто лет назад на этой лестнице, оскаленной теперь ото льда, в темной плесени по стенам.
Нога Вегенера скрипела на металлическом шарнире, позвякивала. У него разрослись редкие усы, по-прежнему чисто светилось пенсне без ободков.
– Вы почему к нам забрались? – Вегенер удивленно посмотрел на разбитую Пашкину губу. – Что с вами?
– Ничего. Брат из дому выгнал.
Это опять показалось Пашке театром. Ему стало неловко, точно он говорить неправду:
– Из-за большевиков поспорили.
– Как видно, здорово? – Оба улыбнулись.
– Он мне губу расквасил.
– Ну что же, пойдемте к нам…
Им открыла Таня Вегенер, в чистом переднике, гладко причесанная. У Вегенеров пахло кофе.
Всюду, кроме спальни, было пусто: они продали все, даже отцовскую витрину с кожаными ошейниками и цепочками. На одного арапа с агатовыми глазами не находилось покупателя. Арап так и стоял с деревянным блюдом в пустой прихожей. Вегенер накинул на его чалму шляпу.
– У нас холодно, извините, – говорил он, входя с Пашкой в светлую комнату, где был один венский стул с продавленным сидением. – Мы вам сюда чемоданов натащим, будет ложе. Мы с Таней все, что было, на деньги переводим и на питание. Я вам скажу: мы думаем пробираться в Финляндию. С большевиками все равно нет жизни.
– Но ведь я тоже хочу уйти. На юг, к белым.
– Мы это обсудим. К белым можно и из Финляндии. «Неужели, Господи, так все удачно устроится с милым немчурой», – подумал Пашка.
В тот же вечер мать узнала, что Пашка у Вегенеров, и успокоилась. Тайком от Николая, она послала Катюшу наверх с теплым крупеником, прикрытым платком.
Николай ни разу не спросил мать о брате, а мать старалась не попадаться старшему сыну на глаза. Мать заискивала перед ним, мать страшилась голода.
Катя проснулась ночью и увидела, что бабынька в накинутой темной кофте сидит с ногами на койке и жует корку хлеба. Кате стало страшно, как она держит корку двумя руками и, склонивши голову, ищет местечка, какое поддалось бы зубам.
– Бабынька.
Мать дрогнула, сунула корку под подушку:
– Испугала меня.
– Ты, бабынька, ешь?
– А если ем, так уж вам дай. Спи.
– Нет, что ешь?
– Корочку хлеба нашла и грызу. Есть что-то хочется. На кусочек.
Она вынула из-под подушки хлеб, разломили надвое, и обе, тщедушная старуха и девочка, как будто были они одним существом, накрывшись с головой одеялом, стали жевать.
У Вегенеров Отто уходил с утра куда-то на Выборгскую узнавать о проводниках, менять деньги, а Таня с девочкой поднималась наверх к теткам-музыкантшам, у которых было теплее. Пашка целыми днями, голодный и одинокий, мог бродить по белому Петербургу.
Со странной болью смотрел он на умирание огромного города.
Все стало как бы обнажать свой костяк: решетки каналов, как ржавые ребра, стена брошенного особняка в плесени, разбитое зеркальное окно, выломанная торцовая мостовая или позеленевшая ручка на подъезде, наглухо заваленном снегом, или обмерзшие колоннады пустого Екатерининского собора – все было мертвым костяком когда-то живого тела. На Неве дымилась низкая метель. Обледеневшие серые миноносцы точно были покинуты командами.
Николай передохнул, одернул шведскую куртку. Его руки дрожали:
– Думаешь, если брат, я буду с тобой возиться. Не такое, брат, время. Стоит только слово сказать, чтобы тебя, мерзавца, взяли. Тоже белогвардеец нашелся.
Пашка сплюнул кровь:
– Доноси. Ты все можешь.
– Буду я со всякой дрянью мараться. А вот вы, мамаша, знайте…
Николай со злобной грубостью повернулся к матери:
– И на носу зарубите. Если хотите, чтобы я помогал, если не хотите подохнуть с голоду, выбирайте или его, бродягу, или меня. А я с ним под одной крышей не останусь.
– Испугал, – подернул худыми плечами Пашка. – Подумаешь…
Он потянул со спинки кресла гимназическую шинельку, поискал чухонскую шапку. То, что он надевает шапку, что рассечена губа, гонят из дому, – все показалось ему похожим на театр, в чем-то не настоящим, и он, тряхнувши головой, по-театральному, сказал:
– Когда из отцовского дома гонят, я и сам уйду.
– Да ты погоди, Паша…
– Оставьте, мама, пожалуйста.
– Паша, погоди. Проси у брата прощения.
Мать шла за ним, но ему так не хотелось, чтобы мать его вернула и переменилась роль сына, изгоняемого из отцовского дома, что он с удовольствием хлопнул за собою дверью на лестницу, вбежал по ступенькам на верхнюю площадку, и там притаился.
Через мгновение мать открыла дверь, позвала:
– Паша…
Он слышал, как она сошла по ступенькам, постояла на нижней площадке, потом медленно вернулась наверх. Мать закинула цепочку и заперла дверь. Он сел на подоконник, не зная, что делать дальше и куда идти.
Глава XVII
Внизу далеко стукнула дворовая дверь.
– Вот так, вот так, – услышал Пашка. К себе подымался Вегенер с дочерью. Девочка в красном капоре осторожно перебирала ножками, лепетала, подражая отцу:
– Вот так.
Голос отца и лепет ребенка как будто были теми же голосами, что восемьдесят и сто лет назад на этой лестнице, оскаленной теперь ото льда, в темной плесени по стенам.
Нога Вегенера скрипела на металлическом шарнире, позвякивала. У него разрослись редкие усы, по-прежнему чисто светилось пенсне без ободков.
– Вы почему к нам забрались? – Вегенер удивленно посмотрел на разбитую Пашкину губу. – Что с вами?
– Ничего. Брат из дому выгнал.
Это опять показалось Пашке театром. Ему стало неловко, точно он говорить неправду:
– Из-за большевиков поспорили.
– Как видно, здорово? – Оба улыбнулись.
– Он мне губу расквасил.
– Ну что же, пойдемте к нам…
Им открыла Таня Вегенер, в чистом переднике, гладко причесанная. У Вегенеров пахло кофе.
Всюду, кроме спальни, было пусто: они продали все, даже отцовскую витрину с кожаными ошейниками и цепочками. На одного арапа с агатовыми глазами не находилось покупателя. Арап так и стоял с деревянным блюдом в пустой прихожей. Вегенер накинул на его чалму шляпу.
– У нас холодно, извините, – говорил он, входя с Пашкой в светлую комнату, где был один венский стул с продавленным сидением. – Мы вам сюда чемоданов натащим, будет ложе. Мы с Таней все, что было, на деньги переводим и на питание. Я вам скажу: мы думаем пробираться в Финляндию. С большевиками все равно нет жизни.
– Но ведь я тоже хочу уйти. На юг, к белым.
– Мы это обсудим. К белым можно и из Финляндии. «Неужели, Господи, так все удачно устроится с милым немчурой», – подумал Пашка.
В тот же вечер мать узнала, что Пашка у Вегенеров, и успокоилась. Тайком от Николая, она послала Катюшу наверх с теплым крупеником, прикрытым платком.
Николай ни разу не спросил мать о брате, а мать старалась не попадаться старшему сыну на глаза. Мать заискивала перед ним, мать страшилась голода.
Катя проснулась ночью и увидела, что бабынька в накинутой темной кофте сидит с ногами на койке и жует корку хлеба. Кате стало страшно, как она держит корку двумя руками и, склонивши голову, ищет местечка, какое поддалось бы зубам.
– Бабынька.
Мать дрогнула, сунула корку под подушку:
– Испугала меня.
– Ты, бабынька, ешь?
– А если ем, так уж вам дай. Спи.
– Нет, что ешь?
– Корочку хлеба нашла и грызу. Есть что-то хочется. На кусочек.
Она вынула из-под подушки хлеб, разломили надвое, и обе, тщедушная старуха и девочка, как будто были они одним существом, накрывшись с головой одеялом, стали жевать.
У Вегенеров Отто уходил с утра куда-то на Выборгскую узнавать о проводниках, менять деньги, а Таня с девочкой поднималась наверх к теткам-музыкантшам, у которых было теплее. Пашка целыми днями, голодный и одинокий, мог бродить по белому Петербургу.
Со странной болью смотрел он на умирание огромного города.
Все стало как бы обнажать свой костяк: решетки каналов, как ржавые ребра, стена брошенного особняка в плесени, разбитое зеркальное окно, выломанная торцовая мостовая или позеленевшая ручка на подъезде, наглухо заваленном снегом, или обмерзшие колоннады пустого Екатерининского собора – все было мертвым костяком когда-то живого тела. На Неве дымилась низкая метель. Обледеневшие серые миноносцы точно были покинуты командами.
Другие электронные книги автора Иван Созонтович Лукаш
«Вопль» Бердяева




 4.67
4.67
Генерал Духонин




 4.67
4.67