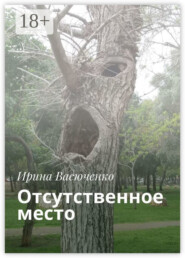По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Последний медведь. Две повести и рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я беззаботно пропускала эти разговоры мимо ушей. Пока однажды, воротясь с прогулки, не увидела у своей кровати довольно громоздкое устройство, наполненное водой, в которой, о ужас, плавала мышь. К счастью, она была жива. Я схватила мышеловку, кинулась во двор и торопливо выплеснула на землю воду вместе со своей мокрой, но отнюдь не утратившей проворства подружкой.
Она убежала, а я осталась стоять посреди двора с этой мерзкой мышеловкой. Как быть? Что если они опять ее наполнят?
…Отец копался у себя в котельной, мама на работе, бабушка ушла пить чай к нашим единственным соседям Гороховым. До революции Гороховы владели белым домом с завитушками, а теперь занимали соседний, ветхий, коричневый, но на мой вкус куда более интересный. В таком доме просто обязаны были водиться привидения, если только хозяйки, глупые и чинные старые девы, преподающие где-то в Москве общественные науки, не распугали их своим диаматом, бесхитростно сочетавшимся с ханжеской набожностью. Вернувшись, бабушка спросила:
– Шура, где мышеловка?
– В пруду.
– Надеюсь, ты шутишь?
– Нет. В ней тонула мышь!
– Мышеловка для того и предназначена, я не затем привезла ее из Харькова, чтобы…
– Это была моя мышь!
– Не говори глупостей! Как можно настолько безответственно относиться к чужим вещам?
– Зато к моей мыши я отношусь хорошо!
Меня распирала гордость. Чувство победы, своей смелости и правоты. Только один пустячок умалял величие моего деяния: я знала, что отцу о нем не расскажут. Как ни обижена бабушка, жаловаться на меня она не станет. И потом… что-то мне говорило, что дерзкая выходка по отношению к ней большой бури не вызовет. Возможно, ему это даже понравилось бы…
Догадка была неприятна, и я живо загнала ее в темный закоулок сознания. Кажется, уловкам такого рода человек научается едва ли не прежде, чем ходить и говорить.
А мышь не вернулась. Похоже, она мне больше не доверяла.
3. Сусами
Близкое соседство туберкулезной клиники беспокоило родителей тем сильнее, что в семье папы чахотка была: от нее умерли его мать и две из пяти сестер. Мне настрого запретили общаться с больными и гулять по саду, где в нашей бывшей сторожке уже устроили мертвецкую: среди пациентов было много тяжелых.
Избегать больных мне удавалось не всегда. Очень уж совестно было шарахаться от них. Как-то, приметив мои неловкие маневры, одна из женщин крикнула:
– Боишься? Обходишь? Не старайся! Все равно и сама заболеешь, и в дом заразу принесешь!
После этого я их больше не обходила. Возражать отцу не осмеливалась, но поступала по-своему. Поняв, что я уперлась всерьез, он решил выбрать из двух зол меньшее и позволил мне удаляться от дому, бродить по окрестным оврагам и полю, даже спускаться к ручью, отделяющему поле от поселка. До того я не имела права отойти от "кремлевского" забора дальше, чем на десяток шагов.
И я пустилась осваивать неведомые пространства – занятие, от которого голова шла кругом. Когда не надо было готовить или стирать, бабушка сопровождала меня. Нас ожидали упоительные открытия. На поле, поросшем редкими соснами, и на склонах оврага мы обнаружили грибы – шампиньоны и маслята. Великолепный конусообразный муравейник возвышался у корней старой березы. Низенькая рощица на горизонте оказалась кладбищем, которое мне почему-то ужасно понравилось: я все тянула туда бабушку. Ее это место не слишком привлекало – может быть, она предчувствовала, что веселым майским утром восемь лет спустя ее принесут сюда, а любимая внучка даже проститься не придет. И, любуясь своей твердостью, скажет подруге:
– Я рада. Ее жизнь стала ничтожной. Лучшее, что она могла сделать, – это умереть.
А пока, пока мы, держась за руки, спускаемся к ручью. Он мелкий, поросший тростником, мама его называет "переплюйка". Невдалеке трое мальчишек с большой корзиной шлепают по воде, то быстро погружая, то вытаскивая свою снасть. Я не почемучка, обычно предпочитаю сама проникать в суть вещей (иногда в высшей степени невпопад), но тут не выдерживаю:
– Что они делают?
– Вероятно, рыбу ловят.
– Здесь есть рыба?!
– Должно быть, страшная мелочь.
Мы подходим ближе, и верно: на бережке стоит банка, в ней плавает несколько рыбешек. При виде их я понимаю, что хочу и буду ловить рыбу. Это больше, чем желание, – это страсть. Она оказалась долговечной. Я уже была книжной романтической девицей, уже строила из себя роковую гордячку и даже подыскивала красивый способ покинуть сию презренную юдоль, "где не умеют без боязни ни ненавидеть, ни любить", но ручей и корзина оставались для меня соблазном. А уж в младших классах я рыболовствовала от души. Поначалу долго пыталась заставить свой улов жить дома в банке. Убедившись, что это невозможно, стала жарить этих крошечных рыбешек на сковороде, благо они мне казались необыкновенно вкусными (домочадцы этого мнения не разделяли). Однажды проходившая мимо не местная, видимо, городская женщина, увидев, как я завожу корзину под бережок, сказала с тихим укором:
– Тебе не жалко рыбок? Им же больно.
У нее было бескровное лицо, страшный зоб и добрые измученные глаза. Она меня задела за живое: я была очень подвержена жалости. Но тут возникало противоречие неразрешимое, уж слишком я любила свою охоту. И я ответила:
– Они глупые. Не понимают, что им больно. Вот животные другое дело, их я бы не могла…
Я запомнила ту женщину, ее взгляд, упрек, к которому отнеслась так по видимости небрежно. Однако ловля продолжалась. Поселок взирал на происходящее с неодобрением, но там были совсем другие резоны. Местные жительницы перехватывали маму на улице и доносили, что ее дочь, вся в грязи и тине, как последний беспризорник, целыми днями мокнет в ручье.
– Знаю. Ее это забавляет, – отрубала мама. Подрастая, я начала ей импонировать: в моем пренебрежении к суду людскому она узнавала себя. Что пренебрежение было отчасти наигранным, мама не догадывалась, ибо сама никогда ничего не наигрывала – этот порок я унаследовала по другой линии.
…В тот день мне ловилось так себе. Поэтому, когда тощий очкастый старик в соломенной шляпе, остановившись на берегу, осведомился о смысле моего занятия, я охотно пустилась в объяснения. Дачник восхитился, принялся рассматривать моих трех жалких рыбок, спрашивал, как они называются.
– Огольцы, – сказала я, потому что так их звали мальчишки. – Только плохо, что в банке они все время дохнут. Не знаю, что делать.
– Мы что-нибудь придумаем, – пообещал мой собеседник.
Глаза у него прямо горели, но я, зная склонность взрослых морочить голову попусту, не придала значения этим словам.
Как вскоре выяснилось, дачника звали Андрей Петрович, и он вместе с женой снимал на лето комнату у наших соседей Гороховых. Он был профессором, но каких именно наук, не помню, да верно, и не знала. Мы подружились, я стала часто забегать к нему в гости. Он приветливо встречал меня и сразу начинал рассказывать, возможно, не без влияния не знакомого мне тогда Кэролла, фантастические истории, в которых фигурировала девочка Мурочка. Положим, до Кэролла Андрею Петровичу было далеко: Мурочка мне не нравилась, ее похождения казались скучноватыми и глупыми, но я вежливо скрывала это. Ведь он старался, придумывал все это для меня и как бы даже про меня. Я понимала, что это не пустяки.
Жена Андрея Петровича взирала на нас весьма кисло. Соседки с ее слов говорили бабушке, что профессорша по горло сыта мужниными чудачествами. Дружба со мной сама по себе достаточно нелепа, но это еще цветочки: с моей легкой руки Андрей Петрович увлекся рыбками, завел у себя в московской квартире большой дорогой аквариум с подогревом, водорослями и черт-те чем еще. На старости лет совершенно помешался!
Услышав об этом, я прониклась уважением к Андрею Петровичу. Он был молодец, и его не понимали. А уж когда в один поистине прекрасный день он явился на пороге нашего "палаццо" с небольшим, но умопомрачительно красивым аквариумом в руках, я от всего сердца простила ему и зануду Мурочку, и неуклюжие шутки, которыми он меня здорово донимал. Я была патологически доверчива, и профессор, смекнув это, с важным видом давал мне всевозможные советы вроде того, что если поймать бабочку и насыпать ей соли на хвост, а потом отпустить, она к тебе обязательно вернется. Я переловила и посолила добрый десяток крупных и мелких бабочек, прежде чем до меня дошло, что Андрей Петрович опять пошутил.
Но что значат соленые бабочкины хвосты в сравнении с таким даром, как аквариум? В нем было семь рыбок – и все разные, в том числе два вуалехвоста, черный и красный, и небольшая пестренькая нахальная рыбка, у которой из живота торчали два длинных уса. Будучи едва ли не меньше всех обитателей аквариума, рыбка с усами – со временем эти два слова от частого употребления слиплись, и она получила имя Сусами (лет сорок спустя я узнала, что оно было не столь уж далеко от правильного – гурами) – так вот, рыбка эта дралась! Разогнавшись, она толкала соседок по аквариуму носом, и вероятно, не безболезненно: носик был твердый. Я проверяла: стоило опустить в воду палец, как Сусами и его толкал. Что это было – озорство, злобность или нечто, в естественных условиях имевшее бы определенный, важный для рыбьей жизни смысл?
Я не долго ломала голову над этой загадкой. Да и вообще мой восторг перед подарком угас до обидного скоро. Рыбы были прелестны, но всегда одни и те же. Хулиган Сусами, и тот, кроме своих тычков, не мог предложить ничего нового. Я остыла, стала забывать о рыбках, теперь бабушке все чаще приходилось заботиться о них вместо меня. Но с Андреем Петровичем мы еще приятельствовали. И вдруг однажды, когда мы с ним, как всегда, сидели на террасе гороховского дома, он ни с того ни с сего брякнул:
– А ты гадюка!
Какая муха его укусила? И что я должна была ответить? Не скажешь ведь старому человеку, как мальчишке, что-нибудь вроде "От тарантула слышу!" Да и не в моем вкусе были такие препирательства. Однако что-то надо же сделать…
Мне шел девятый год, но я уже не могла послужить примером непосредственности. Сейчас мне требовалось остаться одной и подумать. Не решив пока, обижаться ли, я просто встала и ушла. Перед домом мне встретилась бабушка.
– Андрей Петрович сказал, что я гадюка, – озадаченно сообщила я.
Это была не жалоба, жаловаться у нас было не принято, я просто делилась своим недоумением. Но бабушка возмутилась.
– Дурак старый! – фыркнула она. – Что за манера говорить такие вещи ребенку? Знаешь, Саша, лучше бы ты с ним порвала.
Теперь до меня дошло, что мне, видимо, нанесли настоящую обиду. Честь требовала подобающих действий. Я отправилась к Андрею Петровичу. Он сидел все там же, на террасе, и благодушно пил чай. Я встала перед ним и выпалила:
– Андрей Петрович, вы меня обозвали гадюкой! Без всякой причины. Больше я к вам не приду.
Повернулась и с по возможности негодующим видом зашагала к калитке. Никакого негодования, ни даже малой обиды я почему-то не чувствовала, но мне казалось, что я поступила, как должно. Он ничего не ответил, не окликнул меня, но глаза за стеклами очков были растерянными. Этот беззащитный взгляд меня немного смутил – у обидчика, как мне представлялось, должно быть другое лицо.