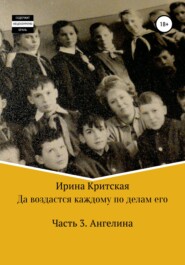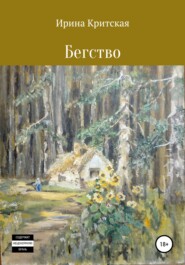По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Да воздастся каждому по делам его. Часть . Ирка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Там, где то, в глубине маминых, вдруг потухших зеленых глаз, появился огонёк. Тот самый…
Глава 24. Лестница
Пожилая аптекарша смотрела на меня сквозь очки, этак в прищур, раздраженно. Её можно было понять , выносить из подсобки уже пятую трость и смотреть как это взлохмаченная, похожая на ворону, дура выставляет их в ряд и сравнивает оттенки – тут терпение надо адово.
– Женщина! А женщина! Вы скоро? Мне смену считать!
Я не обращала внимания на всяко-разные посторонние звуки. Ну, во-первых , потому, что «женщина», это не ко мне. Я к «девушке» привыкла, причём столько лет тому назад, что уж и не сосчитать. А во-вторых, мне было плевать на поздний вечер и даже на ночь, так меня поглотило это сложнейшее дело. Я ведь выбирала трость королеве!
– Женщина! Я к вам обращаюсь. Это палка! Для инвалидов! Это не аксессуар! Вам, может еще инкрустацию подавай? Брильянтами? Так делайте заказ! С предоплатой!
Тётка резко стукнула чем-то в своей будке, как будто стеклом об стекло, аж тренькнуло, и выскочила в зал. Я мельком глянула на ее покрасневшее лицо, поймав злобное выражение маленьких, черненьких глазок – пуговок. Так, наверное, в психушках смотрят на безнадёжных психов, ищущих в своей палате что-то, видимое им одним. Но долго думать о ней я не могла и отвернулась, тем более что одна из палок ну очень привлекла моё внимание. Такая красивая…
– У мамы пальто серо-голубое, шуба золотисто-коричневая. Значит эта, светлого дерева, точно подойдёт. И нахлобучка отличная, позолоченная. Как раз мама такие ботинки купила, на заднике золотые полоски.
Я разговаривала сама с собой, совершенно не замечая, что тетка медленно звереет. И только загоревшийся от её взгляда затылок, наконец отвлек меня от увлекательного занятия. Я потянула выбранную трость к кассе, уворачиваясь от пуль, которые летели из аптекаршиных глаз в мою бедную голову.
– И без сдачи! Я уже деньги собрала!
Тётка смотрела мимо, непримиримость её позиции была очевидна и несгибаема. Я с ужасом рылась в кошельке. Мысль, что мне не хватает именно на эту трость с золотым набалдашничком, не хватает совсем чуть-чуть, каких-то рублей, вдруг лишила меня гордой независимости и всяческой уверенности. Я по-собачьи смотрела на размытое лицо, отражающееся в стёклах уже погасившей свой свет витрины, и, наверное, тихонько поскуливала, потому что аптекарша вдруг сжалилась.
– Ладно! Давай сколько есть. Я на той неделе в смене, занесёшь. Бродят здесь… Вороны… Палки им подавай… По ночам…
***
– Всё таки ты деревня, Ирк. Ну куда ты красоту-то такую припёрла, я тебе что, цыганка? И так стыдобина с палкой ходить, а тут ты ещё. Ты мне костыль бы расписной под хохлому приволокла. Поспокойней-то не было чего?
Мама, согнувшись в три погибели, опираясь большим животом об край раковины, мыла посуду. Она уже не могла распрямиться, так болела у неё спина, и всё делала или сидя, или наклонившись, в упор. На даче теперь везде были мощные деревянные ручки, и я сама, с удивлением замечала, что с удовольствием цепляюсь за них, даже не думая, просто так, для подстраховки.
– Мам, я старалась. Ну честно, под ботинки твои.
– Да не лезут мне на ноги уже ботинки эти. Хочешь, забери. Тебе подойдут… Ты мне грибы в беседку поставила? Иди, ставь. И нож положи, тот, мой любимый. И цветы. Ты мне цветов нарезала? Я менять в вазах буду. Побольше нарежь!
Я с трудом взгромоздила здоровенный тазище с грибами на стол, поставила кастрюлю. Чистить грибы, упругие, пахучие, только что принесённые нами из леса было любимым маминым занятием. А я обожала сидеть рядом. Мама почти не видела, один глаз, тот самый, в котором лопнул сосудик, ослеп, второй, относительно здоровый был близоруким, но она не падала духом. Я, втихаря дочищала прилипшие листики и иголки, так чтобы она не заметила и не обиделась. Но она замечала:
– Ирка, зараза, отвали от грибов, …твою мать!
Тут она смущалась, прикрывала рот ладошкой
– Ой. Прости уж … Что ты там порхаешься, как курица? Подумаешь, пару иголок не заметила. Всё равно промывать будешь. Не лезь, прогоню.
Это меня пугало, потому что не было большего удовольствия, чем сидеть рядом с ней в беседке, смотреть, как полными нежными пальцами в кольцах, она медленно и плавно перебирает грибы, глядя мимо. Но главное – слушать. Меня завораживали её рассказы. Мне всегда казалось, что она прожила не одну – сотни жизней. Теперь я понимаю, так оно и было…
– Ты, когда от мужа ушла, да ещё в этот свой Мухосранск уехала, я долго прийти в себя не могла. Просто сидела оглоушенная и в стенку смотрела.
– Маааам. Ты опять. Это Москва твоя Мухосранск засранный. А у нас в городе фонтаны, чистота… тротуары моют каждое утро, как в детстве. Розы везде, воздух…
– Коровы гуляют, куры… Овцы…
Мама продолжала точно в моем тоне, она умела поймать интонацию, делала это мастерски. Улыбнулась:
– Ты мне в детстве как говорила: «Я утром дояркой буду, а вечером -актеркой». Теперь, вишь, немного до твоей цели….
Она меня всегда поддразнивала, правда теперь мне уже хватало ума не обижаться.
– Так вот, я тогда Галине позвонила. Теть Гале, в смысле, тетке твоей. Рассказываю, она молчит. Как язык проглотила. А потом, громко так, басом: «Вот бл-ди!». И трубку бросила!
Мне было смешно до слёз, тётя Галя матом не ругалась, и если это было правдой, то, значит, возмущению тётки не было предела.
– Потом звонит сама, плачет. Я ей говорю: «Галь! А что ты во множественном числе-то? Ленка твоя приличная, мужей не бросает.» А она мне – " Все равно бл-ди!». И опять трубку бросила. О! Как ты её потрясла!
Толя стоял сзади и хохотал. Мама погрозила ему пальцем и поднялась, цепляясь за деревянную ручку.
– Помоги дойти, Толь. И краски мне купите в городе, деньги на телевизоре.
Мы ехали в машине и всё хихикали. Представить нежную, очень образованную мамину сестру, ругающуюся матом, это всё равно, что представить Ленку, её дочку, не ругающуюся.
– Слушай, а краски ей зачем, не понял.
– Так она художницу свою уговорила с детьми заниматься. Они теперь керамику лепят, та обжигает, потом все вместе раскрашивают. Всю квартиру уже залепили, наверное, сюда нагрянут. Надо ведрами краску покупать, чтоб на всех!
***
Было уже довольно поздно, когда мы приехали из города. Летом темнеет только к десяти – пол-одиннадцатого, поэтому еще только смеркалось, и двор был укутан тем особенным золотисто-розовым светом, который бывает в теплые вечера на севере. Всё было погружено в благостную тишину и только из сарая, где папа устроил мастерскую доносилось «шварк-шварк». Я знала, что оттуда его не дозваться, поэтому мы купили маме автомобильный клаксон, и она трубила им в форточку, когда папа уж совсем «терял совесть» и не подходил к ней «целый час». Но сейчас клаксон молчал, папа, судя по его замусоленному виду и уставшему лицу шваркал в сарае далеко не один час, и что-то здесь было не так.
– Пап! Мама где? В абаме?
Абамой нашу летнюю, длинную как сосиска, украшенную множеством мелких окошек кухню, прозвала мама. Увидев великолепное строение, она хмыкнула и бросила; «Ну, барак! Прям барак абама!» Так и пошло…
Папа выскочил, как чёртик из табакерки и вприпрыжку бросился к кухне, я за ним. Но, судя по выключенному свету, мамы там не было, можно было и не бежать. В доме её тоже не было, и, рванув на поиски в разные углы сада, мы обшарили все закоулки. Вроде мама была бабочкой и могла спрятаться под листик. Но её не было нигде! Обалдевшие, присели на лавку.
– Пап, она может на улицу вышла?
У меня колотилось сердце, я вообще не понимала, что происходит, куда могла испариться женщина, которая даже по двору ходит не очень. С палкой! С золотым набалдашником!
– Да ты что! Она без меня даже до абамы идти не хочет, какая улица!
– Я сейчас кроссовки надену и по улице пробегу. К соседям! Мало ли что, может за ней зашли и в гости утащили…
Одним махом, вроде мне только – только стукнуло пятнадцать, я влетела на второй этаж. Надо сказать, лестница у нас довольно крутая, но тут, я её даже не заметила.
Там, у входа в комнату, на полу сидела мама. Она упала, видимо уже преодолевая последнюю, самую высокую ступеньку, и сейчас, с трудом переваливаясь на бок, пыталась подтянуть отлетевшую палку.
Я, наверное, сказала вслух именно те слова, которым безуспешно всю жизнь она меня пыталась научить. В этот момент мама, наконец, дотянулась до палки, села и погрозила ею мне.
– Я и сама бы встала! Только палка отлетела… А у тебя пыль на полу!
Глава 25. Прощание