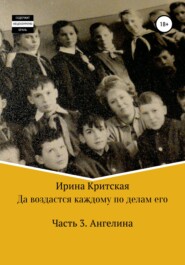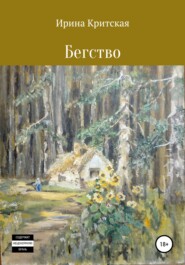По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Да воздастся каждому по делам его. Часть . Ирка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Знаешь, я потерял Нить… А ведь держал её, крепко, аж пальцы резала. Скользкая она, все выскочить норовила, но я держал. А потом – раз! …Мне кажется я нарочно её отпустил.
– Нароооочно? И как ты без Нити? Без неё же ничего разглядишь, все ведь мутное. Да и идти по Нити надо. Тебе зачем её дали? Ты помнишь КТО тебе её дал? Как дорогу к Истине без неё найти-то?
Двое, один высокий, почти прозрачный, с тонким грустным носом, в белесом балдахине с непомерно длинными рукавами и торчащими из широкого ворота угловатыми крыльями и второй – маленький, крепкий, похожий на воробья, с залихватски выглядывающими из прорех грязноватой рубахи белыми перьями, сидели на краю. Они болтали ногами, хотя Мастер сто тысяч раз им говорил, что так не делают. Не по чину!
– Так я вот думаю, а зачем к ней идти-то к Истине? Кто решил, что она истина и есть?
Тот, что похож на воробья, вдруг вскочил, дернул косматыми крыльями и взлетел, очертив круг над Бездной, потом приземлился на самом тонком, совсем хрустальном участочке Края, подняв вихрь серебристых искр. Из дырки в большом кармане, прошитом крупными неровными стежками, высыпалась парочка разноцветных шаров. Они подпрыгнули, скользнули вниз и растаяли в прозрачном воздухе
– Повезло кому-то, так, даром шары привалили. Что ж – курочка по зёрнышку, яичко к обеду, – воробей хихикнул, даже чирикнул слегка.
Грустный посмотрел вслед растаявшим шарам и вздохнул:
– Тебе вот сюда (он похлопал воробья по лбу, потом пригладил ему лохматый вихор) – Не доложили! А сюда… (он ткнул друга в грудь тонким, ломким, как ветка, пальцем) – Переложили. Тебя плохо сделали, ты слишком много думаешь. То, что ты вообще можешь думать уже брак. А тебе просто считать надо. И цвета различать. А ты ещё чууууувствуешь. Сочуууувствуешь… Предчуууувствуешь… Хоть скрывай, что ли. А то век будешь розы поливать у Мастера и мух гонять. Воробей!
Маленький отпрыгнул, вихор дернулся и снова встал торчком:
– Просто считать – люди в баранов превратятся. А они ЛЮДИ! У них тут (он ткнул Белёсого тоже, только палец у него был крепкий, твердый, такой, что тот отшатнулся, охнув), знаешь, как горит! Прикоснешься, обожжёт!
– Так ты, что? (Белесый побледнел и стал сероватым, почти слился с небом) – Ты, что ТУДА ходил? Трогал их? Ты что?
Воробей медленно поднялся, покряхтел, как старичок и бросился вниз. Он летел камнем и только, почти у самой Тверди, нехотя расправил крылья. Подлетел к окну и завис огромным мотыльком, трепыхаясь в смутном свете приглушенных ламп, пробивавшемся из комнаты,
Там, на больничной койке лежала Алька. Худенькое лицо, усыпанное конопушками, выделялось на белоснежной подушке болезненно и странно, мелкие капельки пота блестели росинками, рыжие волосы разметались, сделав ее похожей на солнышко. Худощавый темноволосый парень в свитере с оленями, промокал ей лоб и поминутно поправлял сползающее одеяло. Воробей прижался носом-клювом к стеклу, нос расплющился, как у двоечника, подсматривающего за девчонками. То, что у него клюв только казалось, у него был настоящий, мягкий, детский носишко.
– Ну да… ну да… Истина ему. Какая Истина! Кто её мерил, Истину эту. Как её мерять? Чем? А у неё – вон как горит!
И вправду, под тоненькой тканью Алькиной рубашки, прямо на груди, что-то светилось, вроде огонечек свечи. Тихонько сияло.
Он оторвался от окна и взмыл к небу, прочертив прямую линию в ночном тумане.
***
– Мам, давай, постарайся. Надо пересесть на коляску.
Мама не справлялась. Её большое, тучное тело совсем не подчинялось ослабевшим рукам. Да ещё одышка… она хватала воздух ртом, пот градом тек по лбу, стекал по груди. Отец поминутно вытирал её полотенцем, но этого хватало ненадолго. Наконец, втроём, мы пересадили её на каталку и повезли в рентген-кабинет.
– Ну, держите крепче. Надо хотя бы несколько минут ей постоять прямо.
Я подставила маме спину, чтобы она смогла опереться. Но она оттолкнула меня сильно и раздраженно, собралась в кучку и, уцепившись за поручень, врезанный в стену, выпрямилась.
– Куда ты лезешь! Я ж тебе так позвоночник сломаю. Отстань, я сама!
Врач быстро защелкал кнопками и заорал:
– Что стала! Быстро! Давай в подсобку!
Когда я подскочила к маме, было ощущение, что она, прямо стоя, потеряла сознание. Но держалась, вцепившись побелевшими пальцами в вытертую до сияния железяку. Потом, посмотрев на меня невидящими глазами, рухнула в подставленное кресло…
– Ну, не знаю, тут воспаление, конечно есть, но больше хронь. Что там могло такую остротУ дать? Ну, нечему просто. Не знаю…
Доктор водил мышью по экрану, приближал, удалял снимок, похожий на карту какой-то неизвестной местности. Чмокал по-щенячьи губами, снова что-то ворчал.
– Короче – воспаление напишу, антибиотики проколят. Должно помочь, но ничего не обещаю…
Я вошла в палату тихонько, думая, что мама спит. Но она не спала… Полусидя, опираясь на высоко поднятые подушки, она читала какую-то тетрадку, исписанную детскими каракулями. Она тяжело дышала, периодически закашливаясь, но читала внимательно, слегка прищурившись, близко-близко поднеся страницы к глазам. Отец массировал её вздувшиеся, как шары ступни, в палате было по-домашнему спокойно и мирно. Я залезла на кровать с ногами, она потрепала меня по спине.
– А, Ирк. Выкарабкаюсь, не бойся. Сейчас такой уколище влупили, с поллитра. Скоро капельницу принесут. Мне уже лучше. Иди.
***
Перевозку больных всё же вызвали, хотя мама держалась уже совсем молодцом. Всю дорогу она заглядывала в окно и рассказывала нам, как она обожала раньше бродить по Москве и с каким удовольствием собирается на дачу. Но только надо для детей заключительный праздник организовать, без этого ну никак никуда не поедет. У меня, наконец разжалась внутри до боли сжатая пружина и стало рядом с мамой так же спокойно и хорошо, как раньше. Мигом забылись её нападки, раздражённые и часто несправедливые слова, которыми она вдруг, не с того хлестала меня пару последних лет. Я понимала – это болезнь, страх и отчаянье, но всё равно – обижалась. И тут вдруг, всё это, наносное, схлынуло, стало светлее и легче. И главное, появилась надежда.
***
В березе, что росла конце соседнего участка, точно образовалась дырка от моего взгляда, так часто я бросала его на дорогу, нетерпеливо и нервно, встав на цыпочки, пытаясь разглядеть хоть что-то, сквозь запыленные кусты. Вот-вот должна была подъехать наша машина, Толя вёз моих родителей на дачу. Они перебирались на всё лето, а я должна была отработать еще немного и тоже побыть с ними. «Наконец, я ей диету нормальную организую, готовить сама буду, может хоть немного похудеет, всё дышать легче. А там, только начни… В институт питания её запихнем, ничего, заставим. Справимся! Ей с нами еще лет пятнадцать жить, это минимум! Она ещё у меня гулять начнет. С нами, на лугу» – радостные мысли теснились, толпились, как овцы, толкая друг друга.
Совершенно потеряв терпение, я судорожно натянула парадные шорты, выскочила на улицу, и, надрав ворох маминых любимых желтых сурепок, долго подпрыгивала от нетерпения на обочине. Совсем как в детстве… Когда ждала поезд…
Аромат маминых духов хлынул из машины волной. Тяжело опираясь на палку и папину руку, она постояла перед крыльцом и мне, вдруг, показалось, что она просто не сможет подняться по ступенькам. Но она поднялась, отдуваясь присела к своему любимому столу на веранде, потрогала пальцем керамическую лошадку, которую раскрашивала в прошлом году. Поправила вазу с розами. Улыбнулась.
«Ничего», – подумала я, – «Ничего…»
***
– Что ты сверху вопишь, спускайся. Взяла привычку оттуда кричать. Хочешь сказать чего, иди сюда.
Я стояла рядом с мамой, и ранний утренний свет чуть брезжил через тонкие занавески. Отец, совершенно ошалевший, бегал по комнате, перекладывая какие-то вещи, лекарства, что-то роняя. А мама смотрела мимо меня, куда-то на лестницу и подзывала меня рукой, тем, самым ласковым жестом, который я помнила с детства. И чуть заваливалась набок, пыталась удержаться, но всё заваливалась, заваливалась…
***
Синие до черноты тучи прижались к земле так плотно, что придавили дома. Дома по-жабьи пластались по земле и испускали жар. Этот жар плыл вдоль размокшей дороги, трава парила. Я бежала по пустой улице куда-то, у меня разъезжались ноги, но я должна была успеть. Я бежала и бежала, падала и снова поднималась, пар врывался мне в лёгкие и обжигал, я задыхалась, сердце колотилось в горле, и я почти не помнила, почему и как я оказалась в Толиной машине. Мы гнали по шоссе, мне казалось ещё немного и скорая, увозившая маму, появится впереди, мы её догоним, и я всё поправлю, ужас закончится и все вернутся домой. И за ужином мы хрястнем бутылочку дорогущего шампанского, (золотистую башенку, торчащую из сумки, отец показал мне втихаря, хитро улыбаясь). А потом, может, сыграем в лото…
Телефон зазвонил, затрепетал в кармане. Я выхватила его, папин номер высветился ярко в предгрозовом мареве. Он что-то сказал, но я не осознала слов, вернее я не смогла сложить слоги в слова. Резкая боль ударила мне под ложечку, я, наверное, сложилась пополам, потому что Толя резко свернул на обочину, остановив машину.
…Дальше я помню только папину руку, ладонь, на которой лежали два кольца и серьги. И мысль, назойливо сверлящую мне мозги:
«…Как они сняли кольца…»
***
Полная старушка в мамином платье и шикарном мамином платке, лежавшая в гробу, мамой совсем не была. У неё были твердые холодные руки, мраморно-серые, неровные щёки, провалившийся узкий твердый рот. Только рыженькие бровки домиком напоминали маму, но я не могла на них смотреть, потому что сразу возникал спазм в горле и начинался кашель.
В бликах огромного количества свечек, толпы проходящих людей были похожи на накатывающие валы темной воды. Одинаковые лица мелькали, одинаковые голоса гудели.
«Как много людей», – тупо думала я, – «Они все не поместятся в зале. И сколько мест я заказала – восемьдесят или девяносто… Или сколько…». Только какой-то визг, детский надрывный, не давал моему сознанию провалиться. Я тряхнула головой и всмотрелась. Девочка, маленькая совсем, стояла с другой стороны гроба, хватала эту старушку за руку, и тоненько, как зайчик, повизгивала.
ЭПИЛОГ