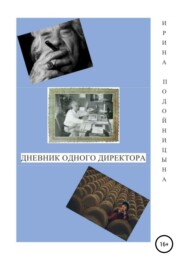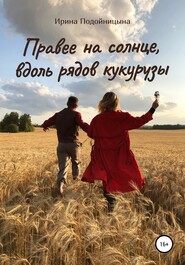По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Путешествие от себя – к себе, в радиусе от центра Вселенной
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И тогда я придумываю сюжет. Мы – пятеро путешественников, нас весьма интересуют этнографические темы, мы должны выяснить, как живут-поживают северные люди зимой, на чем ездят по снежным пустыням, какую пищу едят. Я даю название поездке – «Этнографическая экспедиция». Мы собираем саквояжи и звоним Зине и Коле.
Этнографический комплекс «Чочур Муран» расположен в 7 км от г. Якутска. Белый микроавтобусик весело летит-скользит по белому снегу, разлетается налево-направо пороша. Папа восседает на первом сидении. Всю жизнь начальник, он не умеет сидеть сзади.
Мы прибываем в Чочур Муран и удивляемся, как много здесь всяких видов жилья – деревянное, типично сибирское здание «Дом купца», бело-красная монгольская юрта, похожий на нее эвенкийский тордоох, якутский балаган, деревянный двухэтажный якутский амбар, стилизованный под старину. Мы даже теряемся, где же нам остановиться на постой.
Но все решается быстро – мест для ночевки, оказывается, фактически нет, и выход только один – Амбар. Это, пожалуй, самая экзотическая гостиница, в которой мы когда-либо жили. Как будто мы остановились на ночь у богатого якутского купца. Зина замечает, что у ее дедушки в якутской деревне был такой же амбар.
Мы поселяемся на чердаке здания. В нем низкие потолки, металлические кровати, стоят мешки (в которых якобы хранится зерно и мука, а на самом деле это муляж), стоят старые тумбочки, поржавевшие старые весы с гирями. А вместо стола укреплена старая дверь, торчит металлическая ручка. Вот бы не поставить на эту ручку случайно стакан с чаем!
Приходит официант Семен и излагает:
– Кофе черный называется черным потому, что раньше белые люди кричали своим африканским рабам: «Эй, принеси-ка мне кофе, черный!» А без запятой получается «кофе черный». Так у напитка появилось название.
Первую информацию о пище мы получили, но она – из другого путешествия и из другого мира, а нам –то хочется поговорить на северные темы, и поэтому мы спрашиваем:
– А что у вас есть типично северное, якутское?
– О-о, да полно всего: экологически чистая оленина, строганина, салат «Индигирка» из чира, салат «Юкагирка» из чира и красной рыбы, телятина, медвежья нога, конфеты из брусники и вот – рододендрон! Это наша гордость! Рододендрон – вечно зеленое растение, мы выращиваем его здесь сами. И сами настаиваем чаи…
Немного закусив, мы решаем выйти на улицу, чтобы изучить природу, окрестности. На выходе я стукаюсь головой о косяк – больно и глухо. Меня удивляет тупо-глухой звук удара – со всей силы, фактически с разбегу о плотный косяк. Я думала, моя голова, полная красивых мыслей, должна «звучать» более звонко. Мои спутники подсмеиваются надо мной.
Зато я полностью «проникаюсь этнографией» (посредством удара) и делаю независимое открытие: в таких амбарах не жили европейцы, эти здания были слишком низки для них.
Все вместе мы отправляемся в маленькое «поселение» – это реконструкция старого Якутска. В этом «поселении» стоит амбар, такой же, как «наш», дом купца Мигалкина, перенесенный из центра Якутска (в нем, к слову говоря, было обнаружено «золото Маккены»!) и еще один купеческий дом. Пока все. «Поселение» еще строится.
Пока мы гуляем по «поселению», мы разрушаем один стереотип. Здесь нет никаких скопческих зданий, нет «большого дома скопца». Известный проповедник скифства, ученый Петр Зарифуллин, когда приехал в наш город, был принят местной богемой во главе с «тойоном любви», министром культуры РС (Я) А.С. Борисовым в Чочур Муране.
Чочур Муран поразил воображение Зарифуллина, поразил его и размах приема (каждому гостю дарили по алмазу – ?) и московский гость решил придать экзотичности званому ужину, назвав Чочур Муран «Скопческим Дворцом». А, может быть, это присочинил кто-нибудь из участников богемной супер-тусовки?!
Если хотите увидеть настоящее скопческое поселение, отправляйтесь в наслег Бетюнцы, что расположен на левом берегу реки Лены в долине Энсиэли, в Намском улусе. Здесь когда-то, в деревушке Бютяй-Юрдя проживал один из мощных родов саха, который поклонялся серебряному волку. Это был воинственный и при этом гостеприимный род – так, по крайней мере, гласит легенда. Это же отражается на гербе Бетюнцев: серебряный волк в центре – сила, два золотых сэргэ и два чорона по бокам лазоревого поля – гостеприимство. 148 лет тому назад в этих местах поселились скопцы, создав Хатын-Арынское скопческое поселение из 30 домов. Это были люди из секты – с одинаковыми прическами, одинаковыми лицами (что мужчины, что женщины), с пищащими голосами и без сексуальных проблем, то есть кастрированные. Прибыли они в эти края не по своей воле, скопцов сослали. Но были эти люди на удивление трудолюбивы и страдальчески беззащитны, поэтому «племя серебряного волка» приняло их с миром и никогда не обижало.
Как-то я была в этих отдаленных, очень суровых краях и удивилась, как сохранились до сих пор «осколки памяти» о скопцах – я прошлась по улице, состоявшей из приземистых крепких домов с большими окнами, украшенными голубыми наличниками. Правда, домов осталось уже 7-8. Рядом стояли амбары и ледники, построенные из горизонтально уложенных длинных бревен, плотно пригнанных друг к другу, без всяких щелей. Если хозяин был богат, забор у его дома был выше и состоял из горизонтальных бревен, а у бедного скопца заборы были редкими, «беззубыми», ветер гулял между досками.
Чисто русским изобретением местные, из «племени волка» назвали забор из тонкого, вертикально стоящего тальника, сцепленного в единый ансамбль веток, доходящий до самого тына. Изобретательным оказался один из поселенцев – свой дом он построил на земляной площадке сверху векового свалившегося дерева – не хотел вырывать дерево с корнем. И природа вознаградила его за такое сердобольство, все сохранилось, дожило до наших дней – и крепкий дом, и забор-частокол, и толстое дерево, торчащее из-под дома… Я на этом дереве немного посидела, прикоснувшись к векам. Четыре года тому назад в этом доме умер один из его жильцов, и дом закрыли – в нем так и стоят скопческие сундуки, большие, красивые, полные вещей поселенцев – никто их не трогает…Интересно и то, что скопцы на каждом доме укрепили жестяные таблички «Саламандра. 1846 год» Саламандра – это страховое общество, которое страховало имущество от пожаров в Царской России. Но, как видим, за 150 лет ни разу эти «жестянки» никому не пригодились! Скопческое поселение в Бетюнцах – настоящее сокровище памяти о прошлом !
Но вернемся в Чочур-Муран и поговорим о транспорте. Как передвигались северные люди лютой зимой, в дни, когда солнце лениво пряталось в дымке? Они ездили на оленьих, на собачьих упряжках и на снегоходах.
Коля отправляется покорять снежные просторы на собачьих упряжках. Пока он едет, развалясь в санях, я разговариваю с младшим помощником погонщика собачьих обозов. Шучу – я просто беседую с парнем, который ухаживает за лайками – северными собаками с толстой шерстью и с голубыми глазами, с повадками волка.
– Нет-нет, – говорит парнишка, – они не волки, хотя похожи. Это не правильно так думать – у них нет повадок волка. Наши якутские лайки всегда были добрыми. Злых лаек, которые в улусах нападали на гостей дома, просто отстреливали. Выживали добрые. От наших лаек произошли аляскинские хаски.
Удивительные метаморфозы эволюции лаек – выживают только добрые! У людей бывает наоборот.
Затем мы берем в аренду в фирме «Arctic travel” снегоходы «Буран». Иван едет на своем снегоходе самостоятельно, как настоящий наездник. Вот это настоящий Север, отчаянная скорость, ветер в лицо – холодный и безжалостный! Ветер бьет просто наотмашь, когда мы пересекаем снежную пустыню. Мне кажется, мы едем со скоростью чуть ли ни 100 км в час – за полчаса пересекаем все замерзшее озеро. Одним словом, Джек Лондон! Хотите почувствовать Север, его просторы, снега, безмолвие, холод и жесткость его климата – прокатитесь на снегоходе по замерзшему алаасу!
Мы въезжаем на снегоходах на сопки. Это не слишком крутой подъем, но он требует мастерства. Мой водитель сообщает, что мы поднимемся на пик, высота которого 147 м. над уровнем моря. «Ух, ты! – про себя восторгаюсь я. – Это же высота пирамиды Хеопса в долине Гиза».
Мы мастерски и витиевато заезжаем на сопку и выходим на смотровую площадку, с видом на наш город. Водитель информирует, что этот пик называется Катюша. Катюша – так звали мою маму. Почему я не знала об этом раньше – о пике Катюша?!
Мы с Ваней встали у деревянной изгороди, которой была огорожена смотровая площадка и послали маме привет на небеса. В этот момент бледное зимнее солнышко слегка вышло из-за дымчатого укрытия и поприветствовало нас. Эффект гало (солнце в дымке) был разрушен ради моей мамочки.
Заснеженный, низкорослый, умиротворенный Якутск лежал у нас под ногами. Вид сверху, с пирамиды Хеопса, с пика Катюша был совсем другим – вид был невозможно красивым! Это была графика четких линий, черных дорог, белых квадратов домов, желтых куполов церквей. Это было нарядно и скупо в красках одновременно, как на монохромных фотографиях Александра Родченко.
В залах Чочур Мурана мы с папой рассматривали всякую всячину, артефакты ушедших эпох, в основном советской – швейная машинка, транзистор, патефон, старый сундук, стакан в граненом подстаканнике… Рассмотрели с ним карту Якутска (было написано Якутскъ) 1910 г. Это были маршруты русских землепроходцев ХУII века: Ивана Москвитина, Ерофея Хабарова, Василия Пояркова, Семена Дежнева и др. Интересно, что была еще одна карта – на ней значилось Великая Татария, или Grand Tartarie. Я вначале вообще прочла Гранд Тартарары. «Что за чушь, какие тартарары?» – подумала я. Но нет, это была Татария – картограмма ХIII– ХV вв. Времен горячей бойни с хазарами, которые преследовали набегами из степи русские крепости. На карте выделялась Moscovie, а вот такой земли как Якутия еще не знали. По скифским землям, по снежным пустыням Севера вовсю гуляли кочевники, «солнечные рыцари», как о них возвышенно написал П. Зарифуллин, но кочевники еще не создали своего государства.
Добрый домовой в амбаре пустил нас на ночь. Спали мы хорошо – миссия этнографической экспедиции была выполнена: карты и маршруты найдены, дороги и подъездные пути, быт местных людей изучены, дневники заполнены…
…Сюжет второй на местные темы. Есть под Якутском такой населенный пункт – поселок Табага. Был образован в ХVIII в. как ямщицкое поселение, здесь жили в основном русские мужики и их семьи, меняли лошадей на переправе. Из века в век Табага «держалась» на трудолюбии и живучести (Гумилев сказал бы, пассионарности) нескольких крепких русских родов – Соколовы, Лобановы, Харюзовы.
Представители этих родов-кланов возделывали картофельные поля, преуспели в посадке турнепса и капусты, деньги зарабатывали на ДОЦе – деревообрабатывающем комбинате, самом крупном предприятии Табаги, продавали по всей Якутии деревянные «кругляки», в Великую Отечественную все мужики из поселка честно ушли на фронт.
В центре поселка сейчас стоит высокий монумент-стела – на нем высечены фамилии героев-односельчан, которые прославили на полях сражений северный край. Из 29 фамилий 9 – это Соколовы. На каждом доме на улице Центральной в центре Табаги «горит» красная звезда или звезды – это значит, из этой хаты уходили парни на войну.
Артефакты ямщицкого периода жизни в Табаге пусть немного, но все же присутствуют – это маленькие, вросшие в землю домики, окна с голубыми наличниками, окна, кстати, миниатюрные, игрушечные – чтоб сохранить тепло, стоят безглазые, безоконные сараи – по темному дереву видно, что им более ста лет, возле игрушечных по размерам домишек имеются еще старинные изгороди, построенные без единого гвоздя – бревна уложены не вертикально, а горизонтально, друг на дружку.
Таксист, который как-то вез меня в Табагу, между делом сообщил, что представители трех фамилий до сих пор живут в поселке. Вот он, например, знает Петьку Соколова, который всю жизнь «вкалывал» пилорамщиком на ДОЦе, а после выхода на пенсию так и остался коротать свой век на краю старой Табаги. Не бросил Север, не перебрался, как многие, на Большую Землю. «Просто жаль,– вздыхал табагинский водитель, потомок ямщиков, – если дома эти снесут, когда будет проходить здесь железная дорога, и от прошлого ничего не останется…Забудут люди, какими крепкими были русские ямщики и их праправнуки…»
Рядом со старой Табагой расположен прекрасный уголок – Дом отдыха «Ленские просторы». Красивое двухэтажное здание построено на склоне сопки, в сердце соснового и березового леса, прямо над рекой. Напротив здания Дома отдыха установили огромный шатер, в котором проходят свадьбы.
Но есть одна фишка в этом месте отдыха, которая может привлечь сюда очарованных странников – это небольшой песочный плес, на котором поставили столик, стулья для гостей, чтобы отдохнуть, выпить вина на семи ветрах. Это просто какой-то ресторанный экстрим. Самое примечательное состоит в том, что столик всего один, а больше и не поместится на небольшой площадке, которая как будто нависает над рекой. Я бы назвала этот мини-ресторанчик для одной пары или для маленькой-маленькой компании – «На крутом склоне горы», «Над пропастью во ржи» и так далее в таком же стиле.
Итак, второму нашему путешествию, которое я намеренно вырываю из «повести путешествий», я дала название «На крутом склоне горы». Мы с папой как-то вызвали такси, быстро собрали саквояжи и отправились в путь – на сей раз вдвоем. Мне очень хотелось пригласить его в ресторан над рекой.
Такси быстро катило по сухому асфальту среди просыпающейся навстречу лету природы. Это была поздняя весна – раннее лето. По обе стороны дороги зеленела трава на алаасе, зацветали летние цветы – сардааны. Плоская равнина, окаймленная горами, казалось, радовалась предстоящему лету – и вся обновлялась, переодевалась навстречу ему. Отличная асфальтированная дорога вела к Табагинскому мысу. Это было одно из красивейших мест под Якутском. Такси до Табаги ехало примерно минут 40.
Как только мы устроились с папой в своей комнате в Доме отдыха, мы сразу же пошли гулять по дорожкам леса, делать фотографии на фоне берез. И, наконец, отправились в ресторан «На крутом склоне горы». Я ждала реакции папы. И она последовала незамедлительно – он очень удивился и обрадовался.
– Ничего себе! – сказал папа с чувством. – Вот это, действительно, ленские просторы! Такой размах реки здесь, такой свежий ветер!
Мы позвали официанта, заказали фирменное блюдо – люля-кебаб из жеребятины, а также чай и вина. Официант с подносом и белым полотенцем наперевес бежал к нам от здания Дома отдыха, через лесок. Интересно, что нам обоим с папой и одновременно пришла в голову одна и та же мысль – так много мы объехали, были в стольких странах, а вот такого экзотичного и милого ресторанчика не видели нигде и никогда: один-единственный столик на крутом обрыве!
– Слушай, папка, – говорю я. – А давай вспомним те рестораны, в которых мы были вместе: в Финляндии, Югославии, Абу Даби, Индии, Шри Ланка, ну и в других странах мира. Ты что-нибудь помнишь?
– Помню, – сказал папа. – Хотя многое и забыл. Вот Финляндию я не помню. Она вся пресная, одинаковая и средняя (про себя я согласилась с папой). А вот перед отъездом в Финляндию, помню, мы прекрасно отдохнули в туристическом центре «Измайлово», который тогда в восьмидесятых годах, был просто жемчужиной Москвы. Как мы танцевали под какую-то иностранную песню, я отплясывал в центре круга…
– Это был Туто Кутунью «Я – итальянец». На дискотеках, в 80-х вся Россия танцевала под эту песню. Но самое лучшее воспоминание в смысле ресторанов я знаю, какое – Индия!
–Индия, Индия, ну конечно, Индия, – взволнованно заговорил папа. Я-то знала наверняка, что такое он не забыл.
– Расскажи, а я добавлю, – попросила я.
– Индия, Дели. Как будто это было вчера, мы сидим в таком большом, классическом ресторане. Молодые шустрые официанты обслуживают нас. Все черноволосы, с огромными карими глазами, такие услужливые. Мы ужинаем, беседуем. И тут появляются музыканты. Они садятся в оркестре. Это ансамбль сидячих музыкантов. Девушка в красном сари… Как она пела, такая тягучая песня. А как она была красива – как из индийского кино.
– Ты понравился ей, папка. Это было в отеле «Галактика», – добавляю я, догадываясь, что папа забыл название отеля.
– Ну, да, я понравился девушке в красном, – довольно улыбается папа. – Я же подошел, сел на пол напротив выступающих, смотрел на нее и слушал. Мне даже никто не сделал замечания, что я сел на пол. Я сел и скрестил ноги, как это сделали мужчины-музыканты. Я пристально смотрел на певицу, чтобы она поняла – я в восторге от нее! Я же не мог это выразить словами. Она пела для меня. Я выслушал до конца эту нескончаемую песню. Кажется, песня длилась минут 20, не меньше. А потом попросил девушку спеть «Бродягу» Раджа Капура. Кумира кино 50-х, звезду моей молодости, но, увы, она не знала этой песни…
Официант принес нам вина и мы подняли бокалы.