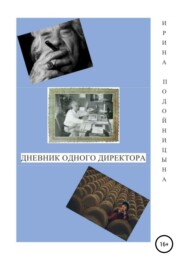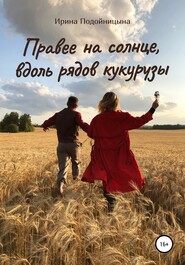По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Путешествие от себя – к себе, в радиусе от центра Вселенной
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А закончить я хочу свой рассказ упоминанием о том же персонаже, что появился в начале моих кратких воспоминаний. Позволю себе сказать еще два слова о Василии Самуиловиче Рыкове, может быть единственном из друзей отца, которые пока остаются в строю и живут в Якутске. Остальные ушли в мир иной, или уехали из Якутии.
… Это тот самый «пост скриптум дружбы», о котором я упоминала выше. Мы сидим с Василием Самуиловичем в его квартире в центре Якутска, на дворе стоят нарядные новогодние праздники. Встречаем год петуха-2017. Сын Василия Самуиловича водрузил огромную живую елку в центре комнаты, пахнет хвоей. Мы пьем чай, немного вина. Я благодарю Василия Самуиловича за то, что он приехал в театр проводить моего отца в последний путь. Василию Самуиловичу уже за 80.
Он держится стойко. Гордится прожитыми годами, тем, что сделал. Ему к лицу прожитые годы. Мы вспоминаем, как работали вместе. Неожиданно Самуилыч оживляется и начинает говорить приподнято, даже весело:
– А вот такую историю ты знаешь? Отец рассказывал тебе? Когда мы работали вместе в профсоюзе, нас послали на сенокос. Пришли к зданию Облсовпрофа, вовремя, но машины не подъехали, – Василий Самуилович говорит и глаз его блестит, я чувствую, что он готовится сказать что-то необычное. – Тогда отец заказал 7 такси и мы отправились на них до Хатасс. А ведь Хатассы находятся далековато от Якутска – километров 50. Авторитет Подойницына у таксистов был огромный – таксисты считали просто за честь везти своего председателя. Убей, не помню, платил он за эти такси или нет, но кажется, все-таки платил. На сенокосе я был кидальщиком, а у твоего отца была как всегда «должность» – он был стоговальщиком, то есть стоял «выше всех», на стогу – утрамбовывал сено, делал сноп крепко-сбитым. Мы с таким удовольствием работали, пели песни. Мы были молоды и счастливы и все верили в свои идеи. Обратно ехали тоже на такси, с ветерком.
Вот еще что напиши, Ира, это были лучшие годы…
Лучшие годы – все перемешалось в моей голове на параллелях воспоминаний, все цветные и черно-белые кадры из прошлого закружились в моем сознании в каком-то ритме, наслаиваясь друг на друга. Вот я вижу Москву и оттепель. А вот первое дерево зеленеет в Якутске, и я будто слышу шум его кроны. А потом перед моим внутренним взором как будто вздымается Вечный огонь на площади Марата, освещая всполохами медные фамилии героев. А потом возникает такая яркая, сочная и судьбоносная картинка, наверное, главная в жизни отца – Русский театр возрождается, как феникс, из пепла, отстраивается и хорошеет. Рядом с ним возводится памятник Пушкину. Мой отец стоит перед памятником Пушкину, со своей кудрявой головой, стоит и внимательно всматривается в черты поэта… Лучшие годы, наполненные трудом и верой, верностью друзей и соратников. Как хорошо, что все это было! И пусть прошло, пусть наступили другие времена, но память все равно сохраняет и воспроизводит иногда и лица, и детали, и строчки из песен, и послевкусие от страстей ушедшей, отгремевшей и великой эпохи.
«Не забуду БРУ…»
Папа сидел в тельняшке и в махровом халате, густые светло-каштановые волосы до плеч делали его облик экстравагантным. Он не был похож на старика, хотя ему было 83 года. Он был красивым, статным мужчиной. Папа курил сигару в затяжку и наслаждался жизнью. Мы решили, что он продиктует мне рассказ про свою молодость, а я сразу запишу его на компьютер.
– Ты похож на старого боцмана, сошедшего на берег, которому уже нечего терять в жизни и он на досуге рассуждает об ошибках молодости, – заключила я.
– Дай мне немного коньяку, – попросил папа. – Нет, я вовсе не боцман, сошедший на берег. Я – бывалый русский кэп, и не старый, а просто в возрасте. Мы приплыли в скандинавский порт, что-то типа Турку и я зашел в бар. Мне надо снять напряжение – немного выпить и я хочу рассказать «братишкам», еще совсем молоденьким о своей жизни… Записывай!
«Я хочу рассказать вам историю о том, как любовь к своей «Альма матер» – училищу, в котором получил профессию – может украсить всю твою жизнь, наполнить ее особым, высоким смыслом. Верность идеалам юности – не пустые словеса, это может стать девизом жизни.
В детстве я не мечтал об алых парусах и о дальних плаваниях. Было совсем не до этого, слишком трудным было мое детство. Родился я в селе Болотово, в деревеньке-колхознице, что ловко примостилась на реке Шилке, ее называли у нас «ключом». Есть такая речка в Забайкалье. Я «прикрутился» к болотовскому ключу ненадолго, после того, как я окончил 1-й класс, мы большой семьей – мама, папа и четверо детей (я, Лаура, Генрих, Галина)– уехали в другие места, в другие деревни, на Амур. Я был старшим в семье, начал работать, когда мне исполнилось 7 лет. Просыпался в 6 утра, бежал на Шилку, а потом, когда мы переехали – и на Амур, проверял «закидушки»– длинные тонкие удочки с самодельными крючками, «изготовленными» из упругой стальной проволоки. Я предвкушал «богатый» улов – огром-ну–ю щуку! – чтобы накормить большую семью, но, увы, чаще попадались мелковатые гальяны, пескари и щучки. И все равно на завтрак я всегда приносил рыбу – это было моей задачей, это был мой долг рыбака-добытчика. А еще я ухаживал за коровой, теленком, курами, утками. Все это «животноводство» лежало также на моих плечах, худощавого рыжего подростка.
Когда мне исполнилось 14 лет, мой отец Иван Венедиктович Подойницын ушел на фронт, ушел в первые же дни Великой Отечественной войны. Отец воевал старшиной в военно-санитарном поезде, который квартировался в Куйбышевке-Восточной (ныне это небольшой городок Белогорск под Благовещенском). За всю войну мой отец только раз приехал домой, посмотреть на нас, ребятишек и, конечно, на верную любимую жену. Отец вернулся после окончания войны с наградами, немного отдохнул и …снова ушел на войну, на сей раз на Русско-Японскую, в Мукден. Из Мукдена Иван Венедиктович пришел настоящим героем. Я любил носить его медаль «За победу над Японией», с точеным профилем Сталина. Очень гордился, что русские освободили китайский Мукден от вероломных японцев, которые держали город в страхе целых 14 лет. Как известно, Русско-Японская война 1945 года была одной из самых коротких и блестяще-победоносных в истории знаменитых боен.
Пока отец ходил трудными военными дорогами, я работал как старший в семье «мужик». Кем я только не был! Трудился токарем Джалиндинской МТС, чинил коленчатые валы в автомашинах ЗИС, был помощником комбайнера, сенокосщиком, научился ладно сгребать в валки высохшую траву с помощью конных граблей. Освоил «профессию» метчика и вершителя стогов сена, проще говоря, стоговальщика. Трудился еще конюхом на конно-товарной ферме, а со временем «пробился» в учетчики молока на молочно-товарной ферме. Когда я стал учетчиком, а это была моя первая начальственная должность, семья наша многодетная – мама, четверо сестер и брат зажили более менее хорошо. Почему я об этом пишу? Да только для того, чтобы сказать, как трудно нам было жить в войну, моей задачей было накормить и напоить семью, я ни о чем другом и не мечтал, не думал. Но потом пришел с войны отец и мне наконец-то разрешили учиться! Я это право заслужил честно, я, можно сказать, его выстрадал!
Я был не таким еще «старым» – мне исполнилось всего 20 лет, когда я поступил в Благовещенское речное училище. Но подавляющее количество парней, конечно, были моложе меня, года на три-четыре. Это был 1948 год. Вся страна восстанавливалась, строилась, танцевала на танцплощадках военные вальсы, от которых веяло ностальгией каких-нибудь военно-полевых романов. И когда я прибыл в Благовещенск из своей деревни Албазино, мне показалось, что я приехал в крупный город, в большой шумный порт. И я испытал такое огромное, захватывающее чувство радости, даже восторга, что я буду учиться в речном училище, стану офицером флота, что мне хотелось ходить по улицам и распевать песни. Стайки девушек в крепдешиновых платьях, которые я встречал на бульварах Благовещенска, тоже волновали мое воображение. Я чувствовал: впереди меня ждет такая насыщенная событиями, яркая жизнь! Помню великолепное здание нашего училища, бывший Торговый дом И.Я. Чурина – настоящее творение архитектуры!
Первая моя ночь в казарме БРУ прошла так – я уснул на своей кровати, мои длинные кудрявые волосы (а я всю жизнь носил длинные волосы) разметались по подушке, мне снилось, что я буду капитаном корабля. А когда я проснулся, резко встал – кровать на дыбы поднялась за мной, к великой радости и веселому смеху моих сокурсников. Парни привязали меня к спинке кровати … с помощью моих же локонов. Конечно, локоны я тут же состриг. Потом мне сделали на правой руке татуировку – «БРУ» и якорь, соединенные в причудливом вензеле. В отличном состоянии татуировка сохранилась у меня на всю жизнь. Мне сейчас 83 года, а три заветные буквы – БРУ – сверкают на моей ладони, как будто я набил их в какой-нибудь портовой мастерской только вчера. Надо было тогда сделать приписку «Не забуду БРУ», но я постеснялся.
Помню, как моя маленькая дочка Ирина как-то спросила меня в Якутске: «Папа, а зачем ты сделал печать на своей руке? Чтобы не искать печать, когда к тебе приносят бумаги, да?!» Моя дочка видела, когда сидела у меня на коленях, в моем кабинете, как мне постоянно несут документы на подпись, а потом еще ставят на них печати. Я засмеялся над ее словами. А потом подумал: так это же БРУ определил мою судьбу управлять людьми, пусть не на кораблях, а на предприятиях – но все равно управлять, командовать, это БРУ предрек мне удачу…
Благовещенское речное училище, лучшие в жизни четыре года учебы, постижения профессии, практики на корабле «Сергей Лазо», годы честной мужской дружбы, когда вырабатывался характер, годы светлых надежд. Как в песне поется: «Не забывается такое никогда…» Я был курсантом эксплуатационного отделения, через год меня назначили старшиной роты. Это была вторая в моей жизни начальственная должность. В тот момент я почувствовал себя продолжателем дела отца, героя китайского Мукдена. Я был, конечно, горд собой.
Я вообще старался брать пример с мужчин, которые воевали на Великой Отечественной войне. Был у нас в училище один такой – для меня и пример, и учитель. Это командир роты капитан-лейтенант Нещадин. Каплей Нещадин был бравым фронтовиком, с наградами, с опытом сражений и побед. Для меня он представлялся бесстрашным и непобедимым, даже фамилия у него была какая-то бескомпромиссная. Хорошая фамилия для воина, который не щадит живота своего ради Отечества. Нещадин приходил в училище в 5.30 утра, поднимал роту в 6 утра. Был человеком самодисциплины, требовательным, строгим. Много времени утекло, более 50 лет, лица моих преподавателей стерлись из памяти, хотя все преподаватели были хорошими, а вот мужественный облик Нещадина, его голос, его уверенный взгляд помню до сих пор.
Помню мою практику в Хабаровске. Ходил матросом на корабле «Сергей Лазо». Ласточкино гнездо помню, просторы Амура. Осталось воспоминание о шальной мечте перейти в Китай и хоть одним глазом посмотреть, как они там живут, наши братья навеки. Помню, как приходила мне в голову мысль броситься с утеса, так как нет на свете верной любви… Но, слава богу, я этого не сделал. Я убедил себя, что все у меня еще впереди, а неприятности и подвохи судьбы надо уметь переживать и становиться еще сильнее.
А дело было так. На первом курсе Благовещенского педагогического института училась моя первая любовь – Фаина Пролинская. Девчата, будущие «учителки» ходили к нам в училище на танцы, каждую субботу. На танцах, в родном училище я и влюбился в Фаину. Я был полностью уверен в своих чарах, но, увы, Фаина переметнулась от меня к парню по имени Коля Зима.
А я-то старался – на выпускной вечер поехал за город для нее, Фаины цветы искать. Кстати, ездил с тем самым Колькой, на мотоцикле. Мы залетели в кювет и я сломал руку. До выпускного вечера я так и не добрался. И вот пока я лежал в больнице, она, моя девушка стала встречаться с Колей. С этим человеком с несерьезной фамилией, который, впрочем, тромбонил в местном оркестре, у нас в БРУ. У него лицо было не слишком красивым, изъеденным оспой. Мне казалось, я был намного привлекательней – один рыжий чуб из-под бескозырки чего стоил! Из всей этой истории я сделал ценный вывод: тромбон, саксофон и гитара – великие вещи, они, оказывается, могут составить серьезную конкуренцию форме речника в острой борьбе за женское сердце.
Но не только для меня, рыжего парня из Албазино, Благовещенск стал судьбой, славным городом юности, в котором рождались мечты, зрели удивительные надежды, но и для моей родной сестры – Лауры Ивановны Подойницыной-Шеиной, – она параллельно со мной, тогда, в начале пятидесятых училась в Амурском сельскохозяйственном техникуме, а также для моего младшего родного брата Геннадия Ивановича Подойницына Благовещенск тоже «сбылся» как город юности – по моим стопам он поступил в Благовещенское речное училище и также успешно окончил его.
За год до окончания БРУ я стал кандидатом в члены ВКПб, а затем и членом партии коммунистов, которой был верен всю свою жизнь. По распределению я отправился в Ленское речное пароходство, в г. Якутск. Поехал туда не один, а со своей молодой супругой Екатериной Валерьяновной Кутовой, своей настоящей любовью, с Екатериной я прожил в счастливом браке 50 лет.
Выше я писал, что хотел стать капитаном. На самом деле я не стал капитаном корабля. Но я смог стать капитаном своей судьбы. Только год я проработал диспетчером на Даркылахском участке Якутского речного порта, вместе со своими сокурсниками по БРУ Женькой Косицыным и Ленькой Копыловым. И через год партия послала меня на другой участок работы – я стал инструктором отдела транспорта Якутского горкома партии. А затем моя карьера резко пошла вверх. В 33 года я был назначен директором Якутской республиканской типографии. Смог добиться того, что типография стала первым в республике предприятием коммунистического труда. А также моя типография получила имя Юрия Алексеевича Гагарина. Я работал заведующим отделом коммунального хозяйства Якутского горсовета. Занимался благоустройством дорог, озеленением города, поставил памятник солдату, который воевал во время Великой Отечественной войны на озере Ильмень, я зажег Вечный огонь на площади Марата, рядом с красивым берегом Лены. Я был одним из тех, кто старательно делал свой город благоустроенным и нарядным.
В 1971 году я был избран председателем Обкома профсоюза транспортных работников ЯАССР. На этом посту проработал 14 лет, и сделал тоже достаточно много. В советские времена профсоюз был большой силой, мы реально защищали людей труда, рабочих – в моем случае это были шофера-работяги, дальнобойщики, таксисты, автобусники, которые колесили по туманным северным трассам. Я любил выступать на рабочих собраниях, говорить с простыми людьми. Строил санатории, пионерлагеря, детские сады.
1 ноября 1985 года я был назначен директором Русского драматического театра. Когда-то, когда я еще учился в БРУ, я играл в любительском театре, театром интересовался всю жизнь. Я уже был фактически на пенсии, но когда стал директором театра, я буквально бросился в бой, с головой окунулся в новую работу. Решил немедленно сделать ремонт, восстановить театр – он лежал в руинах после пожара. И я, как всегда, своего добился – нашел хороших, опытных строителей в тресте «Якутуглестрой», в Южной Якутии и они в рекордные сроки, за три года восстановили храм культуры.
В 2000 году, в городе моей юности, в Благовещенске проходил театральный фестиваль «Благовещение». С каким удовольствием я вез своих актеров в свой любимый город! Билеты для всего БРУ были, конечно, бесплатными: для преподавателей, курсантов и даже членов их семей. Ностальгия по прошлому волновала мою душу, я гулял по набережным Амура и вспоминал прошлое. «Где же вы, друзья моей юности? – вопрошал я про себя. – Матросы, офицеры, каплеи, капитаны, тромбонисты – да какая разница, кем вы стали? Для меня вы все – друзья юности» . Между прочим, тогда в Благовещенске, в далеком 2000-м наш театр был назван Лучшим театром Сибири и Дальнего Востока. Думаю, стены родные помогли.
Ведь где бы я ни был за свою долгую жизнь, я всегда вспоминал БРУ. Между прочим, если взять карту мира и прочертить на ней линии-маршруты от Тикси до Шри Ланки, и от Петропавловска-Камчатского до Лондона, то карта будет испещрена моими маршрутами, как от нечего делать… Так вот, где бы я ни был, я помнил заветы и девизы юности, бульвары на Амуре, гавань под именем Юность… Я все всегда помнил!
Я обращаюсь к вам, молодые – будьте сильными и целеустремленными, романтичными и мужественными, верьте в свою мечту! Станьте капитанами своей судьбы!»
Папа устал, выпил весь коньяк, имеющийся в доме, докурил сигару, прикончил, к тому же, не один стакан чая, пока мы писали. Но он был доволен, я чувствовала, он очень хотел сказать мне все это, передать эстафету памяти.
– Когда меня не будет на белом свете, передай молодым начинающим речникам и морякам мои воспоминания, которые мы подготовили с тобою вместе, – папа говорил это в приподнятом настроении. – Я вижу это так: придет наидобрейшая весна, будет тепло и радостно, молодежь в бушлатах и бескозырках соберется в большом светлом зале, и ты все это им расскажешь. А под моим сегодняшним рассказом, поставь, пожалуйста, подпись: «Ваш Иван Подойницын, выпускник БРУ, эксплуатационного отделения 1952 года. В будущее, с любовью!»
Одно тягучее воскресенье
С утра над маленьким северным городом завис туман – не такой, какие бывают во Владивостоке: хмельные и легкие. Нет, это был обычный морозный туман, неповоротливый и молочно-мутный. Он ничего не предвещал. Только однообразие и беспросветность жизни, в прямом и переносном смысле этого слова. Воскресенье было тягучим. Заняться было нечем. Минуты, а тем более часы ползли медленно. Правда, один классик сказал, что и в Лондоне воскресенье проходит скучно. Но это не меняло сути якутского воскресенья – предстояло его как-то перетерпеть, чтоб в понедельник с удовольствием окунуться в водоворот деловой жизни.
Чашка кофе «117», лежание в постели, книга… Но тут мне позвонили – и пригласили на концерт классической музыки, точнее на фильм-отчет о концерте местной филармонии в Мариинском театре, в Санкт-Петербурге. «Ну, хоть что-то…», – подумала я. Я взяла с собой папу и мы отправились в концертный зал. Я решила, что буду скучать под скрипку или попробую о чем-нибудь подумать под звуки музыки. Показали Мариинку, в которой я не раз была, журналистку, которая брала интервью у наших, якутских музыкантов. Было сказано, что Якутская филармония – самая молодая в мире.
Молодые музыканты – подтянутые, стройные, нарядные (черное с белым), сами чем-то похожие на натянутые струны – играли великолепно. Они исполняли Моцарта, Грига. И вот во втором отделении объявили, что музыканты представят инструментальную композицию под названием «Сансара». От названия повеяло сакральным. Питерская журналистка обратилась с интервью к композитору, автору этой пьесы. Композитором оказался европеец – по национальности итальянец, но родился и живет в Лондоне. Однажды этот молодой мужчина по Интернету узнал, что в далеком Якутске, в Северной Азии недавно создали филармонию и молодые профессионалы, хотя и исполняют вечные мелодии Грига и Моцарта, но все время ищут что-то новое, креативное. Композитор из Лондона вылетел в Якутск, познакомился с оркестром и с дирижером – тоже, кстати, итальянцем. И написал «Сансару» – мелодию, навеянную воспоминаниями о поездке в Южную Индию. Сансара – непрерываемый водоворот жизни, череду рождений сменяет череда смертей, все крутятся в этом колесе и остановить, и понять механизма его движения люди пока не могут…
Это была необычная композиция – постукивания молоточками, нежные звуки скрипки. Потом скрипка солирует, звук ее набирает силу, но постукивания идут фоном. Эта экспериментальная музыка меня удивила. Она была исполнена с таким изяществом и подъемом молодыми саха, в Санкт-Петербурге, в лучшем концертном зале страны. Из зала за оркестром наблюдал композитор, прилетевший из Лондона. Дирижировал итальянец. Я подумала, что мир един и всем понятен, когда люди говорят на языке мелодий. Конечно, воскресенье уже переставало быть тягучим и нудным, оно наполнилось смыслом.
Я даже стала рассуждать философски. Не стоит останавливаться в своих поисках, подумала я. Надо мечтать и претворять свои замыслы в жизнь. Надо мыслить глобально, поднимаясь над суетой. Искать по всему свету людей, которые тебя поймут и помогут в осуществлении мечты. Мир скучен, потому что мы сами не желаем бороться со скукой, мы позволяем ей одержать над нами верх и плывем по течению. Мы сами лениво говорим себе: ничего невозможно сделать с туманом.
После концерта мы с папой зашли в бар «Полярная звезда». Я вспомнила, как в недавней командировке во Владивосток в кафе «Студио» заказала «Воскресный лондонский салат». У нас, конечно, такого не было, пришлось ограничиться кофе и пивом. Обслуживал парень-кореец, не очень хорошо знающий русский язык, но выучивший наизусть название блюд в меню. «Откуда вы родом?» – спросила я его. Он ответил: «С Ямайки». Меня это даже не удивило – воскресенье было таким, с длинными смелыми географическими параллелями, с прорвавшейся в пленку бытия «Сансарой», с романтичной песней скрипки, с философскими подтекстами.
Когда мы шли домой, туман уже не раздражал меня. Он в принципе тоже приобрел некую философскую форму – он означал не отдаленность и ограниченность того небольшого города, над которым завис, а погруженность горожан в самих себя и неспешные поиски чего-то в самом себе, он был не менее загадочным, чем влекущие в моря морские туманы.
Мое воскресенье из нудного превратилось в «гиперсферическое», как у Сальвадора Дали. Сальвадор Дали в одно из сентябрьских воскресений понял, что Гала – это его Галатея, галанимфа, что он напишет божественную картину, посвященную ей, а те художники, что сидят в Париже – просто «сюрэкзистенциальный» навоз, не стоящий его внимания. А я поняла в свое гипресферическое туманное воскресенье, что мир един и полностью наполнен музыкой, что мы в колесе сансары чувствуем себя с папой не так уж и плохо, а те, кто не с нами, бог с ними, не будем называть их какими-то нелицеприятными словами, мы просто не будем обращать на них внимания.
Путешествие от себя – к себе, в радиусе от центра Вселенной
Существует стереотип мышления – чем дальше мы уезжаем от своего дома, тем больше встречаем необычного. Где-то там, в далеких краях, кажется, все по-другому: изъясняются на другом языке, одеваются в причудливые одежды, едят удивительные блюда. Внешность у людей там совсем другая: разрезы глаз, цвет кожи, прически и улыбки… Эти люди, живущие в иных странах, так притягательны, что хочется общаться с ними вновь и вновь…
Писатели и художники мечтают о Зурбагане, Чарьграде, Голубом городе без названия, в которых и сосредоточено все счастье Вселенной. Там можно найти, образно говоря, «золото Маккены». Необходимо отыскать как можно скорее эти места, хотя карт и указательных знаков не существует. Но таков закон приключенческого жанра – ищи!
Признаться, я долгое время думала именно так – уезжать надо далеко! Чем дальше – тем лучше. И подобно герою романа «Русь изначальная» Индульфу, там, в этих далеких краях надо «искать невозможное», «невозможно красивое». Славянский воин Индульф уехал со своей родной Роси, из росской слободы – на теплый италийский берег. Что он нашел? Войну, короткую любовь всемогущей базилиссы Антониды, печально-сладкую любовь чужестранки Аматы, друзей, разочарования, разграбленный Неаполь…Но все-таки нашел!
Однако неожиданно я изменила свое представление о путешествиях. Тому причиной стали некоторые события в жизни. Теперь я стала рассуждать примерно так. Что есть Вселенная? Это – твой дом, твой микромир. Ты погружаешься в себя, чтобы понять, как стать счастливым. Сомнения съедают тебя изнутри. Ты сомневаешься в своих способностях, в своей нужности людям. И у тебя возникает желание путешествовать, на время «сбегать от самого себя».
Но зачем ехать в те края, где живут не похожие на тебя люди?! Их секреты ты вряд ли применишь в своих практиках. Почему бы не попутешествовать по своему краю, чтобы узнать корни, истоки своего рода, чтобы торжественно войти в реки прошлого, которые незаметно, как живительные источники питают сегодняшнюю жизнь… Надо на время уехать от себя самого, но потом неизбежно «вернуться» – к себе.
Путешествия стали смыслом жизни. Мой папа искренне считал, что именно благодаря путешествиям он «убегает» от собственной смерти. В каждом путешествии, в каждой поездке мы с ним находили свой сюжет и свою цель. Мы сами придумывали маршруты, дружно собирали саквояжи, рылись в ментальном багаже, а что мы знаем об этом месте, любили разрушать стереотипы. Мы были Алхимиками-искателями по судьбе, как в романе Пауэло Коэльо. Да, забыла сказать: у нас ведь была своя «команда» – папа, я, мой сын Иван, моя невестка Зина, мой племянник Колян – семья!
За 5 лет мы объехали так много (но, конечно, в радиусе от нашего дома, так как здоровье папы не позволяло поступать иначе), что материала хватило бы на отдельную повесть. Но из «повести приключений» я пока возьму только четыре сюжета, самых интересных.
…Итак, сюжет первый. Мы просыпаемся втроем в хорошем настроении – мой старый папа, мой сын и я. Мы с Ваней, конечно, пьем кофе. Кофемашина гудит на всю кухню. Папа ест печенье, запивая чаем. Собака Север тихо спит у двери, свернувшись в темный клубок. Все хорошо, впереди длинный, ничем не занятый выходной. Но – скучно! Куда пойдешь в серый зимний день, когда даже солнце лениво кутается в дымке?!