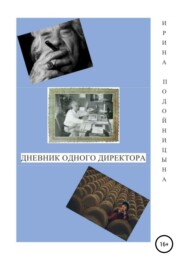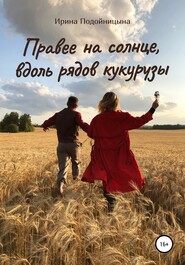По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Путешествие от себя – к себе, в радиусе от центра Вселенной
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мы тоже встретились с Татьяной Аргуновой-Лоу, в квартире ее отца. Я не была в этом доме по улице Ярославского долгих 29 лет. Когда-то мы обсуждали именно здесь, в рабочем кабинете Аргунова наши анкеты, маршруты первых социологических экспедиций, слушали наставления шефа. Отсюда же, из этой квартиры проводили нашего любимого начальника в последний путь. Он умер, поставив последнюю точку в своей монографии об Якутии, которую потом опубликовали в Новосибирске, в издательстве «Наука». Говорят, эта пресловутая «последняя точка» чудом держала Аргунова на земле, хотя он был уже очень болен.
Иван Александрович Аргунов был сильным человеком, большим советским руководителем – он работал главным редактором совмещенной редакции «Социалистической Якутии» и «Кыым», главным редактором Якутского книжного издательства, был знаком и дружен со многими писателями, поэтами, представителями якутской интеллигенции. Аргунов бесстрашно прошел дорогами Великой Отечественной войны. Участвовал в боях за освобождение Варшавы, Познани, дошел до Берлина.
Мой отец и Иван Александрович Аргунов были хорошими друзьями, их свела вместе работа – один делал газету, наполняя ее отличным содержанием (Иван Александрович), второй (Иван Иванович) ее выпускал, печатал. И для обоих газета стала настоящим смыслом жизни. «Трое суток шагать, трое суток не спать Ради нескольких строчек в газете: Если снова начать, я бы выбрал опять Бесконечные хлопоты эти»» – это про них обоих. Татьяна Аргунова-Лоу рассказала, что до сих пор помнит, как приходила к отцу в типографию, ждала, когда он закончит чтение корректуры и играла буквами-литерами, ведь набирали тогда, в 60-х вручную. И я тоже приходила в типографию к своему отцу, и тоже ждала его, ждала, пока напечатают газету, сложат ее стопками, пахнущими свежей типографской краской. Мне нравилось, что мы первыми увидим газету, которую только с утра прочтут другие жители города.
И была у наших отцов одна великолепная поездка, одна на двоих – Америка! Это сейчас без проблем летают до Нью-Йорка, и никого этим не удивишь. Но тогда, в начале 60-х ХХ века слетать в Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго для якутян было просто из ряда вон выходящим событием, настоящей удачей. Прибавим сюда, что только что закончилась «холодная война» между СССР и США, и делались первые попытки американцами и русскими понять друг друга. Это была первая туристическая группа в Америку из Якутска и наши северные туристы воспринимались как полпреды большой страны, лучшие ее представители, которые должны на своем примере пропагандировать советский образ жизни. Я помню любительский фильм, пленочный, его крутили на каком-то допотопном аппарате, но для меня это был Голливуд. Я и сейчас прокручиваю в памяти черно-белые кадры этого немого кино – два Ивана, Иван-русский и Иван-саха спускаются по трапу самолета, на американскую землю. Приветственно машут руками, улыбаются во все лицо, снимают одновременно шляпы. Называется – «Знай наших!» Помню, как папа рассказывал мне, когда я была еще ребенком: американцы были приятно удивлены, что прибывшие на их землю Иваны из далекой провинциальной России, из Сибири были одеты в хорошие, добротные костюмы, у отца еще был модный галстук с цветными горизонтальными полосками. Иваны были довольны жизнью, образованы и увлеченно, умно говорили про свою родину. От той поездки осталось несколько фото в альбомах, несколько цветных открыток отличного качества, из Америки – два связанных с полиграфией специалиста не могли их не сохранить, остался еще старый чемодан-саквояж, который можно сдать в винтажный магазин, а голливудовский фильм, увы, безвозвратно потерялся.
Хочу добавить, что газета «Социалистическая Якутия» в советские годы стала настоящим интеллектуальным центром г. Якутска, да и всей республики в целом. Она объединяла лучшие умы, сверкающие как полярные звезды на местном северном небосклоне, это: Клавдия Федотова, Эдуард Рыбаковский, Валерий Тарутин, Юрий Семенов… Все они были друзьями и приятелями отца, вместе делали одну газету.
Валерий Тарутин прибыл в Якутск по распределению, окончив МГУ. В свою родную Тамбовскую «губернию» ехать категорически не пожелал. Он бредил Севером, хотел объехать стройки промышленных объектов, которые в ту пору гремели по всей стране. Якутия была богата на Всесоюзные ударные стройки. Когда, в 90-х была образована газета «Экономический вестник Саха», никто не сомневался в том, что эту газету должен возглавить Тарутин. Он также внес неоценимый вклад в создание Якутского-Саха информационного агентства (ЯСИА), первого информационного агентства на российском Дальнем Востоке. Тарутин находился в пути неустанно, «с лейкой и с блокнотом», он писал о том, как «дал рекорд шахтер, что пилот забрался выше звезд», он всегда успевал туда, «где проложат трассы семилетки…» Вот так, стихами советских песен мне захотелось сказать несколько слов о первоклассном репортере Валерии Тарутине.
Клавдия Федотова тоже достойна восхищения, хотя бы потому, что в ту пору женщин в журналистике было немного, а она не побоялась вступить в соперничество с мужчинами. Клавдия Федотова начинала свой путь с небольшого партийного журнала, потом стала работать заведующей отделом пропаганды и агитации газеты «Социалистическая Якутия», дослужилась до заместителя редактора. Но в наибольшей мере, по мнению читателей, она показала свой талант, когда стала возглавлять отдел культуры той же газеты. Ее творческий потенциал тогда раскрылся в полной мере, и в городе хорошо запомнили публикации с подписью Клавдия Федотова: журналистка писала не только о музыке и театре, но и том, как собрать хороший урожай в суровых условиях севера, как вернуться к своим истокам, к земле, как сделать богатым подворье на вечной мерзлоте. Аккуратная, жесткая, ироничная – такой была отличная журналистка и мать троих красавиц-дочерей Клавдия Федотова.
Конец 60-х – начало 70-х годов ХХ века. Отец был увлечен идеей озеленения г. Якутска. На вечной мерзлоте, на очень соленых или соланчаковых землях всегда зеленые насаждения приживались с трудом. Отец искал и нашел людей, которые, также как и он, мечтали сделать из северного города город-сад. Он мне рассказывал про Зину Чугунову, заведующую Якутским Ботаническим садом в те годы, Нину Украинскую (Логинову), главного инженера «Зеленстроя», про начальника «Зеленстроя» Бориса Воронова. Это и была его «команда по озеленению».
Причудливо складываются судьбы людей. Нина Украинская-Логинова уехала из Якутска аж в 1987 году, на свою малую родину, в г. Россошь Воронежской области. Но все 30 лет мы регулярно звоним друг другу, всегда в курсе новостей наших семей. Нина всегда мучилась ностальжи по Крайнему Северу, по Якутску, где прошли ее молодость, становление жизненных позиций, где она делала большое дело вместе с моим отцом. Бывает, живешь с каким-нибудь знакомым на соседних улицах и годами, десятилетиями его не видишь и даже не стремишься к этому общению. Так и проходят наши жизни в параллельных мирах. Но с Ниной другой случай – мы чувствовали и чувствуем друг друга на расстоянии. Когда я писала эту маленькую повесть об отце, я позвонила Логиновым и попросила Нину вспомнить, как все начиналось. Как в песне поется: «Ты помнишь, как все начиналось?! Все было впервые и вновь. Мы строили лодки. И лодки звались: Вера, Надежда, Любовь»
И снова ниточка понимания протянулась между Якутском и далекой Россошью, и я услышала теплый голос в трубке:
– Начиналось все так. После окончания Мичуринского плодоовощного института я прибыла по направлению в Якутск. 5 марта 1969 года я прилетела в северный город, который, конечно, совсем не знала. Маленький деревянный аэропорт, -45 градусов мороза, страшно. Отправилась для начала в Министерство коммунального хозяйства ЯАССР. Оттуда меня направили работать в Горкомхоз, контора находилась на улице Кирова («Ух ты! – успела подумать я про себя. – Почти 50 лет прошло, а Нина до сих пор помнит название улицы из своей молодости»). Я просто вся тряслась от страха, – продолжает Нина воспоминания, – как же меня встретят в этом коллективе. На пороге здания появился симпатичный, обаятельный мужчина (я догадалась, что это был мой отец).
Он спросил:
– Тебе что, жалко было потратить 1 рубль, чтобы сообщить о своем приезде?
Я ответила немного дерзко, так как была совсем молодой:
– А вы что, встречали бы меня с оркестром?
Мы оба рассмеялись. Мы подружились с твоим отцом сразу. Он оказал мне большое доверие – я была назначена главным инженером Зеленстроя. Конечно, благодаря своему образованию, я хорошо знала, как выращивать деревья, цветы, разбивать палисадники. Но приходилось иногда заниматься и кое чем незнакомым, например, оформлением подрядов на строительные работы. Иван Иванович меня ругал как начальник, что я была порой не очень расторопна, но только за закрытыми дверями.
– Нина, а расскажите, пожалуйста, как вы добились с отцом того, что в Якутске, на краю света стали выращивать цветы, сажать деревья. Я знаю, это было мечтой отца – озеленить город, – обращаюсь я к своей собеседнице, отделенной от меня тысячью километров и годами разлуки.
– Да, наверное, это и есть лучшее воспоминание из моей профессиональной жизни. Мы с твоим отцом заложили Питомник, где стали выращивать деревья и кустарники, построили первую в городе Теплицу, круглогодично привозили рассаду цветов. Топили теплицу буржуйкой. Иногда в теплице приходилось ночевать, чтобы подбрасывать в буржуйку дрова, очень боялись, что цветы замерзнут.
– Розы выращивали? – спрашиваю я с интересом.
– Розы бы в Якутске не выжили, – сообщает Нина. – Выращивали астры, антирринум, петуньи. В 1978 году мы открыли первый в Якутске цветочный магазин, там продавались цветы, которые мы «доводили до кондиции» в наших скромных допотопных теплицах. Мы с Иваном Ивановичем заложили городской Парк , высадили елки на площади Ленина, разбили газоны и скверы по проспекту Ленина, улице Дзержинского, улице Чекистов (ныне это улица Чиряева). Мы также построили и озеленили множество скверов во дворах многоэтажных домов.
Пока Нина излагала мне свои воспоминания, и делала это с явным удовольствием, я тоже кое-что извлекла из своей памяти. Вот такую яркую картинку: нарядная Нина с огромными букетами цветов, которые даже в руках с трудом удерживает, приезжает к нам в гости 8 Марта и вручает цветы мне и маме, очень радуясь, что угодила нам. Мужчины – мой папа и муж Нины Владимир Викторович тоже довольны. Приветствуют ее добрыми словами. Мама суетится, в какие вазы поставить цветы. На улице за 40 ниже нуля, а в квартире на проспекте Ленина благоухает весна. Вся компания просто лопается от гордости, что у нас лучшие цветы в городе! Потом мы все вместе идем пить праздничное шампанское.
– А цветы на 8 Марта помните? – спрашиваю я.
– Ну, конечно! – радуется моя собеседница. – Такое не забыть. В 1971 году я вышла замуж за Владимира Логинова, тоже молодого специалиста, и твои родители: Иван Иванович и Екатерина Валерьяновна помогли организовать свадьбу, они были моими добрыми ангелами-хранителями. И потом 8 марта стал праздником двух наших семей.
– Ну как там площадь Орджоникидзе? – спрашивает Нина «на закуску». Все 30 лет это было присказкой. Нина время от времени да спрашивала меня, как меняется одна из лучших площадей города, где она когда-то жила, какие здания появились на месте ее дома с аптекой, которую до сих пор помнят в городе. Я говорила, что кроме каменного магазина №4, ничего на площади Орджоникидзе уже не осталось, все изменилось до неузнаваемости, но Нина все равно спрашивала. Ностальжи не покидало ее…
Отец также мечтал зажечь Вечный огонь в городе, потому что язычески-патриотическое действо горения огня в специально оборудованном месте существует почти в каждом крупном населенном пункте. Искали место для Вечного огня. Это оказалось не таким простым мероприятием – все скверы и улицы города по каким-то причинам не подходили. И, наконец, это место нашлось – возле церкви, на берегу Лены. Там, вообще-то, было старое церковное кладбище, его расчистили, приготовили и сделали красивейшую площадь Героев Гражданской войны, или Площадь Марата с вечным огнем посередине. Позже, когда папы уже не было в живых, кто-то из блогеров написал на пространствах Интернета: «Правда или нет, но говорят, Подойницын, когда работал в Горисполкоме, снес ночью кладбище под будущую площадь Марата». Вот такие подвиги молва приписывает отцу…
Когда папа работал управляющим Горкомхоза (здание этого предприятия, кстати, до сих пор стоит в Якутске, по улице Кирова), он старался построить новые скверы, открыть новые памятники, помыть, почистить, покрасить город. Папа любил рассказывать, как он устанавливал памятник солдату у начала новой улицы Ильменской, той, что в Сайсарах. Он вообще летал на святое озеро Ильмень, на древнюю славянскую землю, где жили восточные славяне – словены, те, что создали раннее государство Славию, предтечу Новгородской республики. Папа гордился тем, что побывал у истоков славянского государства. Там же, на Ильмене мужественно сражался в Великую Отечественную войну отряд якутян и спас этот русский кусочек земли, основу основ. Потом в Якутске водрузили прекрасный памятник Ильменскому солдату.
Вот что папа написал в своей книге в главе «Первое дерево в городе, Вечный огонь и Святой Ильмень»: «Горкомхоз, городское коммунальное хозяйство. Я пришел в это хозяйствование совершенно «безоружным», мало что знающим, но этой профессии – хозяйственник – не учатся, это свойство характера, да и опыт приобретается по ходу хозяйствования. Так, почему же я согласился на приход, на эту большую, без границ работу, да, именно без границ?! Меня «сосватал» на эту должность Главный архитектор г. Якутска, который затем стал Председателем Госстроя ЯАССР Нариман Суханов (личность в городе тоже легендарная, друг Андрея Вознесенского, с которым он вместе учился в МАРХИ – уточнение автора повести). Нариман Валентинович Суханов хотел вместе со мной отстроить, преобразить город, искал в моем лице единомышленника. Помню, как мы подъехали с Сухановым к одноэтажному, приземистому зданию Горкомхоза, которое и зданием-то назвать нельзя, сотрудники ютились в комнатах-клетушках, где даже стульев не хватало. Но меня не волновала проблема комфортности-некомфортности моего начальственного кабинета, меня мучил такой вопрос: что мне ждать от городских хозяйств, где взять денег хотя бы на дороги, ведь даже главная улица города – проспект Ленина – был тогда устлан чурочкой, деньги на дорожный ремонт и на строительство дорог не выделялись… Моя сестра Валька Подойницына (позже – Аганина) бежала молодая на каблучках-шпильках по проспекту и шпильки застревали в бесконечных щелях, она все время опаздывала и на танцы, и на учебу и жаловалась мне: «Да что за город такой колхозный, весь центр – в чурках…» Почему я согласился работать в Горкомхозе ? Потому что меня убедил мой друг Нариман, потому что я был коммунистом, потому что, если не я, то кто же? Первое, что я сделал, все же улучшил комфортность рабочих мест моих сотрудников – хотя бы туалет для них построил, никто не обращал на это внимание… А потом взялся за большие дела! Я добился в Горисполкоме прибавки средств на дорожное строительство, построил четыре улицы – проспект Ленина (бывшую Большую улицу), улицу С.М. Кирова, на коей и стоял Горкомхоз, улицу Орджоникидзе и Портовскую трассу, последняя была вообще земляной, гравийной. А потом появилась на ней разделительная полоса и зазеленели деревья: березы и тальники. А потом мы с Нариманом Вечный огонь зажгли, он вырывался из красной звезды, а по бокам, с трех сторон стояли панели памятника. Мы заказали большие медные буквы на Жатайском судоремонтно-судостроительном заводе, их там выковали мастера и «написали» ими на каменных боках – Оборона Сасыл-Сысыы, Оборона Амги, Никольский бой и др. Вывели имена героев Гражданской войны – К.Говоров, М. Бубякин, Ф. Сыроватский и др. »
Нариман Валентинович Суханов давно уехал из Якутска в Москву (в конце 70-х) и уже ушел из жизни. В Якутске о нем напоминают здания, построенные по его проектам, памятная доска на доме, в котором он жил в начале проспекта Ленина, а также легенда о том, как он привез в Якутск Андрея Вознесенского и как поэт читал стихи на ступеньках Русского театра. Внезапно мне приходит в голову мысль проверить этот образчик городского фольклора. А вдруг это не так? С одной стороны, вроде нет ничего особенного в этой легенде – приезжал же Евгений Евтушенко к своим якутским друзьям, в июне 2016 г., плыл с ними к Ленским столбам, читал стихи у памятника Пушкину. С другой же стороны, в 70-х годах ХХ века не было такой свободы передвижения, да и вообще никаких других свобод не было.
Не без труда, но я все же нашла родственников Суханова – его племянница Ирина Суханова работает в магазине «Цветы» на проспекте Ленина, и живет она сейчас в квартире знаменитого дяди. Я спросила Ирину, слышала ли она что-нибудь про приезд культового советского поэта в нашу северную столицу, не то в 70-х, не то в 80-х годах прошлого века. Но Ирина сообщила, что она была ребенком-подростком, когда дядя жил в Якутске и почти ничего не помнит. Зато у женщины оказалась при себе уникальная книга – «Записки архитектора» Наримана Валентиновича Суханова, он успел написать ее в Москве, точнее в Подмосковье, сидя на своей даче. Книга вышла в 2008 году, в столичном московском издательстве и в Якутск передали только один экземпляр. В столице жизнь и карьера Наримана Валентиновича Суханова сложилась весьма удачно – в течение почти 10 лет он работал первым заместителем Председателя Госстроя РСФСР, был также Главным архитектором БАМа. Но на пенсии он очень заболел, даже лишился ноги, и написание мемуаров для него было лучшим лекарством, таблеткой от депрессии. Для Ирины Сухановой эта книга – раритет, живое напоминание об известном родственнике, она не разрешила мне ее взять к себе домой и я читала книгу, сидя в ее цветочном магазине, читала просто взахлеб – это славный бестселлер о советском времени.
В «Записках архитектора» я нашла то, что искала. Андрей Вознесенский, действительно, прилетал в Якутск – это случилось летом 1977 года, в аэропорту его встретил его друг и однокурсник Нариман Суханов, поэт читал стихи в Русском театре и в аудиториях ЯГУ, на ступеньках театра и университета он устроил настоящую автограф –сессию, надписывая журнал «Знамя» за 1973 год со стихами, посвященными Нариману. Нариман Валентинович подарил поэту конверт, в котором лежали волосы со шкуры мамонта. Так что народная молва на сей раз почти ничего не исказила.
Спокойные, застойные 70-е, расцвет СССР. Папа проработал 14 лет председателем Обкома профсоюза транспортных рабочих республики. В СССР профсоюз был огромной созидательной силой, он реально делал много для простых, рядовых тружеников. Папа строил пионерлагеря, детские сады, санатории, читал лекции о важности проведения и организации социалистического соревнования. А как он обожал собирать шоферов, таксистов на профсоюзные собрания и беседовать с ними о жизни, узнавать об их нуждах, переживаниях! Крепко уважал настоящих работяг-шоферов, которые жить не могли без заснеженных колымских трасс, туманов в окне, терпкого запаха кофе из термоса. Был у него один такой соратник – Виктор Феофанович Паутов.
Я снова достаю папины записи. «На стандартном белом листе я пишу о нестандартных судьбах», – рассуждал папа. Прямо как Евтушенко, только в прозе. Великий поэт когда-то сказал стихотворно: «Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы – как истории планет. У каждой все особое, свое, и нет планет, похожих на нее». В главе « Крепче за баранку держись, шофер!» папа написал про то, как работал в профсоюзе транспортников и как связали его извилистые пути-дороги судьбы со многими славными людьми:
«…В этой шоферской главе я хочу вспомнить о людях хороших. Я таких много знавал. Где же вы теперь, «друзья-автополчане»?! Все автотранспортные коллективы советских времен, когда я работал председателем обкома профсоюза «Автотрансшосдор», были мощными и люди, которые их возглавляли, были крепкими и энергичными. «Гвозди бы делать из этих людей. В мире бы не было крепче гвоздей». Вот смотрю на фото, на котором стоим мы вдвоем: шофер-работяга Виктор Паутов и я. XIV съезд профсоюзов, Москва, 24-25 февраля 1982 года. У Виктора Феофановича на лацкане пиджака – ордена, а мой отглаженный пиджак в то время был осчастливлен только скромным значком – «Отличник социалистического соревнования». Но я этот значок любил, всегда носил. Правда, дома у меня лежала медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне, 1941-1945 гг.», я получил ее, когда был еще мальчишкой, очень ей дорожил. Одевал только на День Победы. А еще я любил почему-то носить медаль отца, Ивана Венедиктовича Подойницына – «За победу над Японией». Я всегда гордился тем, что мой отец в войну с Японией ушел на Мукден, который и в Русско-Японскую, и в Советско-Японскую был знаменит и кровопролитен, а в Великую Отечественную войну мой отец Иван Венедиктович Подойницын – служил старшиной Военно-санитарного поезда, что стоял в Куйбышевке-Восточной. Но вот сейчас, когда я пишу эти строки, в марте 2011 года, на моем флотском пиджаке уже красуется 40 орденов и медалей, которые я заслужил своим честным трудом в Якутии…
Виктор Феофанович Паутов ходил в архи дальние рейсы, на тысячи километров, от Якутска через Алдан, Чульман – до станции Сковородино, моей малой родины. Я любил эту дорогу, потому что именно по ней я приехал свыше 50 лет тому назад из Читинской области на Север, в Якутск – со своей молодой супругой Екатериной Кутовой, одним полупустым чемоданом и щенком, которого нам подарили по пути. А Феофаныч рассказывал мне об особенностях каждого рейса, и о том, как его принимали в сельских и поселковых столовых. Впрочем, столовых тогда было не очень много по трассе. Чаще Паутов делал себе пельмени на примусе, внутри своей кабины.
С именем Паутова связано замечательное начинание шоферов города Якутска и республики. В начале 1974 года он дал слово: за два оставшихся до конца девятой пятилетки года записать на свой счет миллион тонна-километров. Так родилось движение «миллионеров». Да, мой друг Феофаныч был нашим, советским «миллионером»! Его обязательства многим казались несбыточными. «Это невозможно сделать на ЗИЛ-130!» – говорили скептики. Паутов водил ЗИЛ-130 – колесил на машине с прицепом по горным трассам, с крутыми поворотами, затяжными подъемами. Прибавьте сюда наш северный туман да пятидесятиградусный мороз. И размывы после дождей прибавьте …
Паутов не мог без дороги. Он каждый раз намечал и покорял новые рубежи, посвященные съездам партии, профсоюзным съездам, красным дням календаря. Помню, вернулся из рейса, позвонил мне доложил, отдохнул день и собрался обратно. Надо было подарить родине к 60-летию Великого Октября очередной миллион тонно-километров. Паутов вел свой ЗИЛ-130 по Амуро-Якутской магистрали уверенно и достойно, но никогда не лихачил, он даже медленно ездил, удивительно, как успевал так много «намотать километров», кстати, дорога пролегала рядом с железнодорожным полотном. Тогда строили БАМ. Паутову посчастливилось увидеть тепловоз на якутской земле – даже дату точную помню, это было 19 декабря 1976 года. Он был из тех, кому везло в пути.
Коротков Вячеслав Михайлович руководил автоколонной 1366, самым крупным автопредприятием в Якутске, и даже, может быть, во всей Якутии. Хотя, возможно, я чуть преувеличиваю, у алмазников, в Мирном были фирмы и покрупнее. Впрочем, все по порядку. Короткова я по-особому любил, потому что он – мой земляк, родом из Читинской области, такой же, как и я, гуран. И было еще одно удивительное совпадение в нашей судьбе – мы оба учились в Благовещенске, только я в БРУ, Благовещенском речном училище, а Вячеслав – в Амурском политехническом техникуме. Но тогда, в юности нам встретиться было не суждено, потому что я окончил БРУ, уехал по распределению на реку Лену, в Якутск, и только пару лет спустя этого Вячеслав приехал учиться в свой АПТ, пошел по моим стопам – ходил в тельняшке, мечтал через Амур махнуть в Китай, что, впрочем, один раз и осуществил, танцевал с девушками на танцплощадках и др. . Коротков был мужик-богатырь и везучий по жизни. Ничего и никого не боялся, шел напролом во всех делах и почти всегда побеждал. Когда он по окончанию Сибирского автодорожного института приехал по распределению в п. Полярный Мирнинского района, с ним произошел такой случай: он предотвратил возгорание в машине, спасая людей – у него обгорели волосы, лицо, порох взорвался в руках, но он выжил и достаточно быстро пришел в себя, даже следов не осталось. Как-то он два пальца обрезал циркулярником, нисколько не растерялся, положил их в лед, не теряя времени отправился к врачу-травматологу и тот ловко пришил пальцы. Увечья также не осталось. Вячеслав пережил туберкулез, рак и прочие «неприятности». Но главное было, конечно, в том, что Коротков был рисковым мужиком, и в жизни, и на работе – трудился честно, всего себя отдавая делу, был главным инженером СУ 888, руководителем автоколонны 1366 (с 1982 – по 1995 – уточнение автора повести). Одна из самых крупных строек автоколонны – взлетная полоса аэропорта Якутск, это была ударная стройка одной из пятилеток.
Коротков, как все советские начальники, сосредотачивал все свои силы на выполнение планов пятилетки – это было законом. Коротков был иногда весьма жесток со своими подчиненными, но он не признавал лентяев, халтурщиков. Некоторые считают, что советским начальником было работать не так трудно – государство всегда помогало. Но это, конечно, не совсем так – помню, как Вячеслав Михайлович боролся за экономию нефтепродуктов, как установил личный контроль каждого водителя за расходованием топлива, сколько сил потратил на восстановление авторемонтных мастерских, как с трудом добывал на это деньги и др.
Я считал Короткова мужиком-богатырем, которому все трудности по плечу. Но одну ситуацию в жизни он все же не смог «победить» – когда в 2010 году скончалась его любимая супруга Людмила, он растерялся, сник, никак не мог найти себя… Да и советские времена уже прошли, стройки отгремели – и стержень жизни был, увы, утерян…»
Середина 80-х годов ХХ века – 2008 год. 22 года, 5 месяцев и 5 дней отец проработал директором Государственного Русского Академического Ордена «Знак почета» драматического театра им. А.С. Пушкина (такие подсчеты он осуществил в своем дневнике). На пенсию ушел в 80 лет. Начал карьеру конюхом в 14 лет, в своей родной деревне Албазино Читинской области, а завершил славный трудовой путь в должности директора театра, в весьма почтенном возрасте. Отметим, что отец открыл первую страницу своей удачной театральной истории, своего бенефиса длиною почти в двадцать лет, будучи уже пенсионером – а мог бы почивать на лаврах дома. К тому времени он уже немало сделал, о чем мы написали выше, но отец согласился на предложение возглавить театр, которого в тот момент, в 1986 году в физическом смысле слова… просто не было. Театр сгорел, вместо театра в центре Якутска возвышались руины. Эти «останки уснувшего, но когда-то бушевавшего Везувия» стояли в центре города достаточно долго, искали хорошего хозяйственника и в то же время творческого человека на место директора. И нашли моего отца, который удачно совмещал в себе эти главные качества.
Как отцу удалось восстановить театр из пепла, отстроить новое, нарядное здание с хорошей, современной сценой, большим залом? История про театр вообще достойна отдельного рассказа, если не целой книги. Но расскажем про истоки, то есть про строителей театра. Вот что об этом писал сам отец в своих манускриптах: « Итак, я стал «директором Помпеи»… Левой стены у здания фактически не было, груда кирпича и искореженного металла… Начались мои поездки на Малый БАМ в поисках строителей: Якутск-Нерюнгри, Нерюнгри-Якутск. Добрался я и до Тынды, мэром Тынды тогда трудился Марк Борисович Шульц, мой товарищ по профсоюзу автомобилистов и дорожников. Я всегда считал, что этот умный, начитанный еврей, даже рафинированный, Марк Борисович Шульц вернется в свою Москву после того, как Большой БАМ пустят в эксплуатацию. У него была квартира в центре Москвы. И каково же было мое удивление, когда я вновь обнаружил Шульца, в конце 80-х в Тынде! Я понял, он сердцем и душой крепко прикипел к северу. Вначале у Шульца была цель построить БАМ, железнодорожную ветку, то есть принять в этом деле посильное участие, а теперь, в 80-х ему уже надо было сделать столицу БАМа, Тынду красивым, современным городом, со всеми подобающими инфраструктурами (Марк Шульц проработал мэром Тынды 18 лет и был официально признан старейшим мэром России – уточнение автора повести). В общем, я и к нему ездил советоваться. Дело кончилось тем, что театр стало реконструировать, а можно сказать, и строить заново мощнейшее в то время строительное управление «Гражданстрой» комбината «Якутуглестрой», которое возвело небоскребы в тайге, то есть новый город Нерюнгри. Начальником строительства театра был назначен «матерый бамовец» – Олег Пухкалов. Он вместе со своей супругой Ниной в свое время строил Беркакит, там же у них была громкая свадьба. То, что я нашел Пухкаловых, было большой удачей. Они возвели театр в рекордные для нашей республики сроки: с июня 1986 по апрель 1989 год.
О свадьбе Пухкаловых стоит сказать отдельной строкой. Тогда, в январе 1976 года, когда была назначена свадьба, в п. Беркакит стояли только временные жилые вагончики, привезенные с Кузбаса. Свадебный стол был накрыт в столовой, состоящей из двух состыкованных торцами вагончиков, и отапливалось это праздничное «помещение» буржуйкой. Председатель горисполкома П.С. Федоров привез работников ЗАГСа из г. Нерюнгри. Также приехал на свадьбу 1-й секретарь ВЛКСМ г. Нерюнгри Д.Д. Трофимов, ведь Малый БАМ был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Температура на улице была -48 градусов, а вместо свадебного автомобильного кортежа было две упряжки оленей из поселка эвенков Иеренгра. Вот такой была советская бамовская романтика… »
Олег и Нина Пухкаловы, несмотря на разницу в возрасте, стали хорошими друзьями родителей. Пухкаловы – пример крепкой бамовской семьи. Семья, рожденная великой стройкой, сумела и в серых буднях сохранить изюминку любви и даже, как это ни громко прозвучит, преданность идеалам боевой молодости. Олег Пухкалов всегда летает в Москву, на встречу с бывшими бамовцами и комсомольцами. Вот, к примеру, он отмечал 40-летие БАМа в Москве (2015 г.). Встречался там с бывшим начальником «ГлавБамстроя», а затем министром строительства РФ Е. В. Басовым, с Первым секретарем ЦК ВЛКСМ Е.М. Тяжельниковым и многими другими известными людьми.
А в июне 2012 года мы с отцом специально съездили в Нижний Бестях, чтобы сделать снимок товарного поезда (пока только товарного), подъехавшего так близко к Якутску. Споры о том, когда железная дорога доберется до Якутска и вообще нужна ли она там, продолжались во время строительства Большого БАМа, Малого БАМа – продолжаются споры и сейчас. Увидев Нижний Бестях, папа обрадовался, что он похож на бамовский поселок, такой была и Тында времен своего становления, в 70-х. Мы сделали снимки – и конечно, отправили их ветерану БАМа, Почетному транспортному строителю РФ, орденоносцу Олегу Пухкалову и его верной супруге Нине на юг.
Когда отец служил в театре, он был дружен и встречался с такими известными деятелями культуры как Олег Табаков, Евгений Леонов, Валентина Талызина, Борис Щербаков, Владимир Конкин, Вилли Токарев, Роман Карцев, Нина Ананиашвили и с многими-многими другими.
Трудными дорогами жизни, но всегда вместе, всегда поддерживая друг друга, прошли две семьи – Подойницыных и Тарасовых. Тарасовы прибыли в Якутск в 1952 году, по распределению, по путевкам Ташкентского финансово-экономического института. Молодые специалисты Тарасовы, смело рванувшие с Крайнего Юга на Крайний Север, в 1959 году подружились с моими родителями, тоже молодыми специалистами – были активными общественниками и познакомились на мероприятиях коммунистов, то есть по партийной линии. Встречались в большой квартире нашей семьи по Проспекту Ленина, 15. Моя мама к тому времени уже была избрана депутатом Верховного Совета ЯАССР. У Подойницыных и Тарасовых была дружба-любовь, дружба-преданность, дружба-соревновательность. Но соревновательность наблюдалась в самом позитивном смысле этого слова. К примеру, молодые семьи поставили целью собрать большую библиотеку, и старались привозить со всего света, со всех командировок интересные издания – мировую и русскую классику, серию книг «Жизнь замечательных людей», мемуары известных личностей, в Якутске покупали книги местных писателей. Сложновато было в советские времена достать зарубежные детективы, но и это иногда удавалось. Папа и дядя Коля наконец-то собрались духом и пересчитали книги в своих библиотеках, постоянно подшучивая друг над другом и делая прогнозы, кто победит. Удивительно, но число книг, стоявших на полках почти во всех комнатах в обеих семьях (и в гостиной, и в рабочем кабинете, и даже в спальне и на кухне) оказалось равным – 1900 штук. Но папа все же присудил первое место дяде Коле, потому что он читал больше всех людей, которые ему когда-либо приходилось видеть в жизни. Дядя Коля читал ночами, он курил и читал, снова курил и читал, и не мог освободиться от двух этих «вредных», заразительных привычек. Со временем Тарасов-старший курить бросил, но читать не переставал даже в моменты болезни.
Подойницыны и Тарасовы встречались каждую пятницу, накрывали стол, спорили, обсуждали рабочие вопросы, семейные проблемы. Разговоры текли неторопливо, были обстоятельными и душевными. Встречи по пятницам стали непременным ритуалом дружеских отношений двух семей. Если посиделок не получалось по каким-то причинам, даже очень уважительным, родители очень расстраивались. Вот какую фразу я нашла в рукописной книге отца: «Пятницы есть и будут, в великом мире, они будут повторяться нескончаемо, как сам наш мир, но только нам с Валей и Колей уже не удастся попасть в этот водоворот повторений…»
Николай Александрович Тарасов начинал в Якутии с простого ревизора, потом был назначен заместителем начальника отдела госдоходов Министерства финансов Якутской АССР, работал заместителем заведующего финансовым отделом исполкома Городского Совета народных депутатов, возглавлял Октябрьский райфинотдел. Валентина Гавриловна Тарасова тоже начинала с простого сотрудника, потом ее карьера также пошла в гору – она дослужилась до заместителя управляющего Госбанком. Работала также начальником финансового отдела ПГО «Якутскгеология», занималась распределением централизованного финансирования по геологическим экспедициям.
Около 30 лет Тарасовы отдали развитию финансовой сферы республики. В этом труде нет вроде бы ничего героического, все буднично, по инструкциям, никакого особого творчества – распределение средств, контроль за исполнением и др. Это с одной стороны. С другой же стороны, Тарасовы были предельно честными, преданными делу работниками, не создавали никаких коррупционных схем, не шли ни на какие приписки и др. Честность была возведена в принцип жизни. И, может быть, благодаря таким людям как тетя Валя и дядя Коля, или если хотите, официально – благодаря Валентине Гавриловне и Николаю Александровичу Тарасовым экономика республики в советские времена развивалась динамично, с большими перспективами, развивались и геология, и промышленность, и сельское хозяйство – на всех денег хватало.
За несколько месяцев до своего ухода из жизни дядя Коля написал папе письмо, там были такие строчки: «В нашей жизни, Иван, в разное время были и другие люди, с которыми мы встречались и общались, но то были временные попутчики по жизни, а настоящая дружба оказалась только одна – наша. Я доволен и удовлетворен этим»