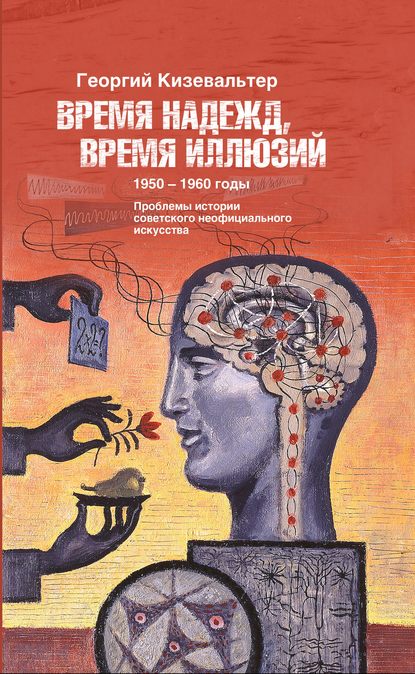По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Время надежд, время иллюзий. Проблемы истории советского неофициального искусства. 1950–1960 годы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
М. Г.: Да, в библиотеке можно было взять все что угодно. Конечно, бывали какие-то запретные издания, но чаще всего то, что мы брали, было открыто для всех. И самые просвещенные библиотекари не знали, что мы там берем.
Г. К.:В основном, как я понимаю, вы ходили в Ленинку?
М. Г.: Дело в том, что я везде, где бывал, первым делом шел в библиотеку. Так я в Грузии, когда там жил, прощупал все их библиотеки. Тогда только мы, как мне казалось, по-настоящему представляли себе, что такое футуризм. Россия всегда славилась тем, что «открывала» хороших литераторов и художников через много лет после их смерти.
Г. К.:А когда вы познакомились с Эдиком Штейнбергом?
М. Г.: В 1960 или 1961 году. Я был в гостях у писателя Пудалова в Тарусе, и тот показал мне целую пачку каких-то пейзажей и портретов местного художника. Я снисходительно сказал: «Способный мальчик, пусть рисует». Потому что тогда многие рисовали так. А для нас это все уже было давно пройденным этапом. Даже американские течения к тому времени были позади. А встретились мы в первый раз у Яковлева в его отсутствие: я делал для Яковлева мастерскую со стеклянной крышей в его сарае. Вошел парень такого полууголовного типа, и, пока он ждал Яковлева, мы разговорились и подружились. Как правило, его отец, писатель Аркадий Акимович Штейнберг, жил в Тарусе, а мы часто сидели в комнате Эдика на Мещанской. Тогда никто еще не хотел в нашей среде признавать его, с его импрессионистическими рисунками, но я всегда защищал его. Однажды я привел к нему Фридриха Хитцера[22 - Friedrich Hitzer (1935–2007) – славист, переводчик, историк. Награжден медалью Пушкина за вклад в развитие культурных связей между Германией и Россией (СССР).] и продал ему рисунок Эдика с какой-то церковью – это была его первая проданная работа. Хитцер сказал, что у него нет денег, а я посмотрел на его шикарное пальто и сказал: «Отдай ему свое пальто!» А это была модная вещь… И обмен состоялся. Позже я сделал Эдику выставку в молодежной секции МОСХа на Ермолаевском. И у меня там тоже была выставка – я показал своих еврейских стариков…
Г. К.:Интересно. В какие примерно годы это происходило?
М. Г.: В декабре 1964 года. У меня там были хорошие знакомые вроде Димы Жилинского. Мы принадлежали к разным мирам, но были в хороших отношениях, и я с ними договорился, что они сделают в МОСХе выставку Яковлева и Штейнберга. Эдик тогда рисовал убитых куриц и т. п. Это были отдельные однодневные выставки в рамках молодежной секции. Моя выставка была там примерно в 1966 году.
Г. К.:А какие американские течения вы знали в то время?
М. Г.: Допустим, абстрактный экспрессионизм. Я сам никогда абстракцией не занимался, за небольшими исключениями. Хотя страшно любил всех американских абстракционистов. А чуть позже узнал и полюбил художников, только начинающих свою карьеру, вроде Раушенберга – я ему отправил в подарок оклад русской иконы. Я бы послал и саму икону, но подумал, что ее почта не пропустит, а на железку не обратят внимание… У меня была очень большая и целеустремленная коллекция икон. Все искали старинные иконы – и в денежном, и в других смыслах важные. А я собирал иконы всех времен, но особенно любил народную, деревенскую икону…
А что касается художников, то не было тогда ни в Америке, ни в Европе таких современных художников, которых бы я не знал. Мы их всех знали наизусть. Были художники, просто подражавшие западным коллегам, как Лев Кропивницкий, который распылял краску аэрографами в своих рисунках, а потом перешел к совсем уже не оригинальным абстракциям. Кулаков делал работы под Поллока, но нас не интересовали русские Поллоки. Большинство из нас не подражали, а искали свой язык.
Г. К.:Вы часто употребляете местоимение «мы». Кого конкретно вы включаете в эту группу?
М. Г.: «Мы» – это художники, которые в конце 1950?х – начале 1960?х стали находить друг друга и соединяться общим пониманием художественных проблем. Каждую новую фигуру мы обдумывали и обсуждали – подходит этот человек или нет, достаточно ли веса в его работах. Постепенно складывался консенсус, как я уже описал это в своей статье о «втором русском авангарде»[23 - См. статью М. Гробмана «Второй русский авангард». С. 525.]. Там же помещен список из 35 человек, активных в эти годы, вклад которых, хотя бы на определенном этапе, был достаточно значителен и оригинален, чтобы включить их в группу.
Г. К.:Если говорить об этом вашем термине – «второй русский авангард», возникает неизбежный вопрос, в чем его отличие от неофициального искусства? Только в субъективной оценке творчества художников? В статье, к сожалению, никаких четких критериев не обозначено, и вы сами признаете, что «границы между авангардистами и неофициальными часто были размытыми».
М. Г.: Все, что делалось в неофициальном искусстве, не имеет ценности. Это было повторение западных или даже русских задов, несамостоятельная мысль, несамостоятельная работа. Оно было неофициальным, то есть эстетически и политически оппозиционным (в нем было много абстракционистов, экспрессионистов, сюрреалистов и т. д.), но оно не было искусством, достойным обсуждения. По всему Советскому Союзу оно насчитывало несколько сотен человек. В Тбилиси, на Украине, в Молдавии я встречал неофициальных художников, делавших работы под разных современных западных мастеров. Но они не являлись оригинальными художниками, подражали западному искусству, разным его ипостасям. Как мы могли выделить художника из моря неформалов? Каким критериям следовали? Для этого есть не критерий, а процедура. Заметьте, что и сегодня в мире нет жесткого, всем известного критерия, считать ли то или иное сегодняшнее новое произведение или акцию значительным событием художественной сцены, и на эту тему идут жестокие споры. Критики обсуждают одну фигуру за другой, аргументируют, пишут статьи. Ситуация в 1960?е годы не отличалась от сегодняшней ничем, кроме одного: мы в своем кругу и были теми критиками, которые ходили друг к другу и к новым знакомым по мастерским, обсуждали работы, их смысл и форму, степень их оригинальности, выносили свои суждения. Других критиков у нас не было. Субъективное мнение одного – это всего лишь субъективное мнение, но в мой список включены художники, вокруг которых – как сегодня – сложился консенсус в нашей среде. Кстати, западные критики, которые иногда приезжали в СССР, вполне поддерживали этот консенсус, их оценки и выбор не особенно отличались от наших.
Так что «второй русский авангард» – это термин, призванный охватить оригинальных художников, создавших свои идеи. Причем всех их тоже нельзя принимать безоговорочно. Ибо среди художников второго русского авангарда были люди, у которых интересны только единичные, самые ранние работы, предположим, начала 1960?х. А потом они начали просто повторять самих себя.
Г. К.:Какие интересные выставки того периода вы могли бы выделить?
М. Г.: Ну, началось все с выставки Пикассо – ему коммунисты не могли сказать «нет», потому что он был тогда большой фигурой. Потом открыли залы импрессионистов и постимпрессионистов – это были очень важные для нас экспозиции, и мы там пропадали часами. Разумеется, не только мы – многие ходили туда, а некоторые сделали себе из этих французов целую религию. Например, был такой художник Скульский, считавший, что самый гениальный художник – Сезанн, поэтому он торчал в музее целыми днями и читал о Сезанне лекции посетителям.
Потом была американская выставка, французская выставка – там мы увидели потрясающие вещи. Мы жили с этими художниками – это была наша жизнь. Хотя на кого-то эта энергетика произвела плохое воздействие – зачем было повторять зады американского или европейского искусства? Мы это не очень-то принимали. Требовали, чтобы была своя позиция, что-то свое.
Были очень важные выставки футуристов в Музее Маяковского. У Харджиева в коллекции были их работы. Мы с ним сделали много выставок в этом музее – Ларионова, Гончаровой, Матюшина, Экстер, они совершенно изменили московскую ситуацию. Мы вместе с Ириной[24 - Ирина Врубель-Голубкина, жена художника.] помогали ему делать экспозицию. А Николай Иванович много рассказывал нам об этих художниках.
Вообще жизнь была чрезвычайно активной. В 1966 году философ и искусствовед Джон Берджер написал большой материал в Sunday Times Magazine, который изменил отношение Запада к русским художникам. И сложилась такая ситуация, что о нас стали регулярно писать в западных СМИ. Ведь нас было 35 человек, связанных друг с другом и друг друга признававших. И все отношения в дальнейшем возникали на этой базе.
При всей нашей свободе волеизъявления художники не всегда в то время понимали, зачем и почему я что-то делал. В частности, работы с использованием советской символики не очень-то воспринимались. Я уже с 1964–1965 годов занимался разрушением советских мифов, и мой коллаж «Генералиссимус» с фигурой Сталина был сделан в то время. Это был первый Сталин, поставленный в другой контекст. Кабаков проложил ступени в том же направлении своими абсурдистскими работами 1960?х годов, и в конце концов это направление стало понятным даже людям неподготовленным.
Вообще первые левые художники появились около 1959 года. Второй «набор» включал Янкилевского, Кабакова и т. п. Это были выпускники институтов, решившие отказаться от того, чему их учили. Третий «набор» состоял только из одного художника – Михаила Шварцмана, появившегося позже всех в этой компании.
Г. К.:А вы относите «лианозовцев» к художникам 1959 года?
М. Г.: Да, это «лианозовская группа» и Яковлев, но были и другие художники-анахореты вроде Рогинского, которого мы увидели первый раз на выставке на Мещанской, где еще участвовали Нусберг и другие, а также впоследствии исчезнувшие или умершие художники. Можно почитать «Второй русский авангард» и «Варианты отражений» Галины Маневич – там карта неофициальной художественной Москвы прочерчена довольно точно.
Г. К.:Кто участвовал в выставке в Музее Достоевского в 1962 году?
М. Г.: Там были Яковлев, Эдик Штейнберг, я и группа ребят из ВГИКа: Коновалов, Тюрин, Шилова, которые своими корнями уходили к Саше Васильеву[25 - Александр Георгиевич Васильев – сын кинорежиссера Георгия Васильева, был известен как букинист и «маршан» в 1960–1970?е годы. К так называемому «васильевскому кругу» (нареченному так поэтом Геннадием Айги) принадлежали художники В. Пятницкий, И. Ворошилов, В. Яковлев, Э. Курочкин, С. Афанасьев и др. О нем читайте: Про Сашку Васильева. Пробел-2000, 2012.]. Васильев был удивительно талантливый человек, который просто пропил свою жизнь, уничтожил сам себя. Но это именно он открыл Яковлева, он безупречно чувствовал, понимал и собирал картины.
И вот еще важный момент. Художники не были какой-то отдельной кастой. Кроме них были и поэты. Среди последних большое признание получили Станислав Красовицкий и его друзья Валентин Хромов и Леонид Чертков, игравшие важную роль в объединении поэтов. Мы собирались, читали свои стихи, смотрели картинки. То же самое было и у «лианозовцев» с Евгением Кропивницким, Холиным и Сапгиром.
Позже я концептуализировал это соединение визуального и поэтического и стал делать «визуальные стихи». Часть моих визуальных стихотворений написана на обложках советских книг. Я сделал 40–50 таких обложек, дорисовывая и дополняя в стихотворной форме имеющиеся изображения. Это была очень важная для меня серия: моя цель была разрушить советскую культуру изнутри. Сейчас это вновь стало очень актуально, потому что теперь ее экспонируют заново! Помню, как-то раз мы стали спорить с Юло Соостером и Ильей Кабаковым о том, что станет в будущем с нашими картинами и сочинениями. Соостер был самым резким оппонентом и сказал, что все то, что сейчас не признается в СССР, станет самым важным и ценным. Кабаков ухмылялся, но не готов был спорить с Юло. А мне тогда и в голову не приходило, что вся эта советская дрянь будет и в XXI веке висеть в музеях и выставочных залах.
Г. К.:То есть вы тогда никак не разделяли устремления художников, допустим, сурового стиля?
М. Г.: Нет, мы категорически отказывались принять их в ряды актуального искусства.
Г. К.:А почему тогда вы общались с Жилинским, Костиным[26 - Имеется в виду Владимир Иванович Костин, искусствовед.]и другими из СХ?
М. Г.: Человеческие отношения всегда были. Мы не особо и общались. Просто была молодежная секция, и там можно было показать такие вещи, которые в других местах нельзя было пристроить. Я этим пользовался, и потому получились выставки Яковлева и других.
Г. К.:Иными словами, они оказывали вам поддержку?
М. Г.: Да, они все вели себя прилично. И это дало мне возможность и даже обязанность сказать теплые слова в некрологе о Жилинском. Они не были партийной сволочью, хотя не нужно забывать, что они были воспитаны на ОСТе, РОСТе и прочих советских художественных образованиях. Даже сейчас эти остовские художники сидят на коне, однако если рассматривать их серьезно, то это не искусство. Хотя их называют «левый МОСХ», это ничего не меняет. Это все был советский мрак. По большому счету они боролись с официозом за деньги правительства. И после грома и грохота вокруг выставки в Манеже они пришли к власти.
Г. К.:У меня возникло ощущение, что многие в конце 1950?х и чуть позже начинали заниматься искусством потому, что им хотелось бежать от советской действительности, уйти в свой мир. Вы согласны с этим?
М. Г.: Нет, это никак не было связано. Нас интересовало только искусство. Никаких целей делать что-то против советской власти ни у кого не было. Чтобы делать какие-то политические вещи, до этого русское искусство тогда еще не дошло.
Г. К.:Нет, я не о политике как средстве самовыражения, я о способах ухода от реальности. Почему вдруг вы начали заниматься искусством? Кстати, вы ведь наверняка работали где-то в те годы, иначе вас бы обвинили в тунеядстве.
М. Г.: Да, такая опасность была. Я спасался тем, что работал в магазине оформителем витрин, санитаром в 5?й градской клинике и т. п. А потом я стал иллюстрировать книжки, работал в журналах, и меня приняли в МОСХ.
Началось все с того, что мы шли как-то с Соостером по улице и он сказал мне: «Почему у тебя нет денег? Ведь тебя все знают, ты можешь делать все – ведь евреи все умеют делать! – и зарабатывать большие деньги!» И действительно, в один прекрасный день мне все надоело, и я стал рисовать иллюстрации к рассказам и статьям. Книги мне было делать лень, а вот все наши друзья вроде Булатова, Кабакова или Янкилевского трудились в поте лица, делали книги. К Янкилевскому невозможно было приходить, это было пугающе, потому что, когда бы ты ни пришел, он в любое время был занят. Все они всегда были заняты и по-настоящему не пили так, как художники «первого призыва»[27 - Про художников «первого и второго призывов» см.: Гробман М. Второй русский авангард. С. 525.]. Целый ряд художников вроде Пивоварова в то время были только иллюстраторами и лишь позже, в 1970?е годы, стали делать вещи, не связанные с книжными заказами. И Чуйков начал поздно. На них сильно повлияла новая волна, начатая Кабаковым и продолженная Комаром и Меламидом, к которым присоединились разные другие люди.
Из «несоветских» гнезд, дававших нам работу, надо вспомнить важный журнал «Знание – сила». Он был известным рассадником свободомыслия. Один украинский художник позже рассказал мне, что они ждали каждый месяц выхода нового номера «Знания – сила» так, как будто это был журнал «Америка», «Польша» или что-то в этом роде. Мы все их ждали с нетерпением. Любопытно, что ни в каких воспоминаниях не отражается достоверная история этого журнала.
Г. К.:А заказы на иллюстрации вам давал Юра Соболев, верно?
М. Г.: Нет, это не так было. Соболев пришел в журнал позже нас. В наши времена журнал хорош был тем, что предложил новый формат иллюстраций, отличный от традиционного. То есть иллюстрации могли существовать в нем сами по себе, не были привязаны к тексту. Все организовал там Боря Алимов. Он был художественным редактором до того момента, пока не набил морду какому-то советскому функционеру. Его за это выгнали из Союза журналистов и с работы. После него журнал попал в руки Бориса Лаврова, который позвал меня, и мы заправляли там вдвоем, как Чапаев и Фурманов. И тут началась вакханалия, потому что все серьезные художники хотели печататься в журнале – не как иллюстраторы, а со своими работами. Впервые настоящие работы Кабакова, к примеру его «Муха» и др., были напечатаны в «Знание – сила». Целкова я буквально заставил одну работу для журнала нарисовать – все отказывался. Штейнберг был совершенно неспособен, но все же что-то сделал там. У Яковлева тоже там была самостоятельная работа. И если открыть журналы «Знание – сила» тех лет, все это можно там увидеть. Так что при советской власти первые работы многих известных художников были напечатаны в этом журнале. Когда в 1966 году пришел Соболев, он по приказу сверху стал развивать там эстетику иллюстрации, и это было уже менее интересно.
Наше художественное свободомыслие никак не было связано с борьбой с советской властью. Даже Рабин никогда не был политическим художником. На советскую власть никто не обращал внимания. Мы ее игнорировали. Мы занимались искусством, а не политикой. Большую роль в нашей жизни сыграли и чехи. В один прекрасный день поляки, а за ними и чехи обнаружили нас в Москве и стали писать о нас в газетах и журналах, а затем устраивать наши выставки у себя. К нам приезжали такие критики, как Халупецкий, общепризнанный искусствовед, и постепенно статьи стали появляться в журналах и газетах на Западе.
Г. К.:Давайте опять вернемся немного назад. Почему же молодежь начала рисовать что-то совершенно иное в 1950?е годы? Рабин сказал мне, что он начал делать что-то новое только после фестиваля 1957 года.
М. Г.: И не только Рабин. Фестиваль был тем фактором, который поменял очень многое и повлиял на всех художников. Ведь на фестивальной выставке были представлены все тенденции современного искусства в мире, хотя далеко не в самых лучших образцах. Впрочем, я начал заниматься творчеством еще до фестиваля и, возможно, невпопад, когда это еще не было нужно. Я очень поздно понял, что быть первым невыгодно. Нужно делать как все и в нужное время. Моя проблема еще и в том, что я уехал очень рано и меня сразу вычеркнули из всех списков. Я-то занимался продвижением своих друзей на Западе, а они меня забыли, и я исчез из России, независимо от того, кто тут был первый. И только сейчас, после выставки на Ермолаевском, которая была в 2014 году, мое имя возвращается на свое место.
Г. К.:А с Михаилом Чернышовым вы общались в те годы?
М. Г.: В 1960?е годы Миша Чернышов занимался главным образом культуртрегерством. У него все время были новые репродукции, новые книги, новые альбомы. А впервые он выставился вместе с Рогинским и кем-то еще. На Большой Марьинской был какой-то клуб, и его директор разрешил там выставки целого ряда художников, включая и группу «Движение». Помню, как там ходил великий Королев, а Нусберг ему все непрерывно объяснял и показывал. Потом ее прикрыли, и кончилось, как всегда в СССР, ничем. Но посетило ее множество зрителей. И эти выставки очень важны, потому что сейчас у каждого из бывших кинетистов своя версия истории, и настоящую историю направления очень трудно восстановить.
Вот и со Злотниковым сейчас поднимается такая же муть вокруг его имени. Злотников действительно существовал с очень ранних времен, сделал некоторое количество интересных работ под влиянием Мондриана, а также больших гротескных бытовых сцен, но быстро вышел из этого движения и занялся конвенциональной педагогической деятельностью. Нигде не принимал участия в выставках, сидел тихо. Его следующее появление на художественной сцене с декоративно-ташистскими абстракциями случилось намного позже, уже в 1980?е годы. А теперь благодаря, наверное, его ученикам, которые хвалят его на всех углах, оказывается, что он чуть ли не первая фигура нашего времени. Я не против Злотникова, но не так это было, как пишут. И на все такие явления приходится откликаться, потому что каждый пишет историю по-своему. Иерархия нового русского искусства еще не построена, это предстоит сделать молодым искусствоведам.
Сентябрь 2016 г., Тель-Авив – Москва
Попали под раздачу…