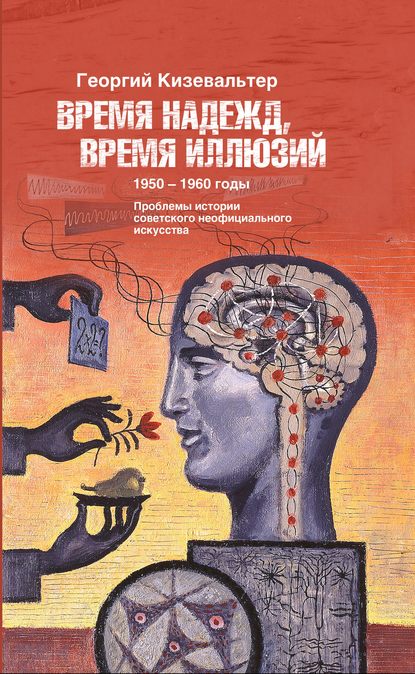По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Время надежд, время иллюзий. Проблемы истории советского неофициального искусства. 1950–1960 годы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Г. К.:И «Гонцы-скороходы» Г. Юрмина, которую Олег делал вместе с Ильей Кабаковым в 1961 году…
Э. Б.: Да, и еще он помогал Кабакову делать «Сказку о стране Терра-Ферро» Пермяка.
Г. К.:Интересно, что в то время так много деятелей левого искусства были задействованы в издании хороших детских книжек – была такая спасительная ниша ухода от государственного диктата и идеологии. Но вот ситуация с выставочной деятельностью до 1962 года позволяет увидеть, что не было тогда еще особого деления на левых и правых. Все как-то и что-то показывали на официальных выставках, те же Олег Васильев, Олег Целков, Оскар Рабин, Юрий Васильев, Эрнст Неизвестный и другие. А потом вдруг всем экспериментаторам сказали: «Больше ничего не будет. Нельзя!» И неофициальное искусство было вынуждено появиться! Что вы думаете об этом?
Э. Б.: Конечно, оно вынужденно появилось. Видимо, в Манеже это и произошло. А до этого все старались выставляться: и оскаровская компания, и Янкилевский, и другие.
Вообще мне кажется, что многое в те годы пошло от протеста, вызванного нежеланием рисовать только так, как велит начальство. Конечно, у кого-то сложилось уже свое видение мира, но очень у многих формальные эксперименты шли именно от чувства «против» – против того, как «надо», против навязываемого, обязательного[14 - «У нас было в те годы острое и мучительное сознание того, что искусство, которому нас учат, – это ложное, фальшивое искусство, которым нас обманывают, но что есть настоящее, подлинное искусство, полное великих тайн и озарений. Этому искусству нас не учили, но мы знали, что есть посвященные, которым открыты его тайны. Этими посвященными и были формалисты». (Булатов Э. Другое искусство. С. 10.)].
Г. К.:И вы тоже, как я понимаю, сказали себе тогда: я буду делать картину и заниматься книжками…
Э. Б.: В общем, да. Конечно, я еще сам не знал в то время, каким я буду художником. Но было ясно: для того, чтобы стать серьезным художником, нужно было спокойно работать, не беспокоясь о каких-то посторонних проблемах. Это важный момент. Чтобы можно было сконцентрироваться на проблемах искусства. И я совершенно не думал о выставках, хотя, если бы мне предложили, я бы, наверное, согласился.
Г. К.:Но после Манежа уже никто не предлагал?
Э. Б.: Конечно. Это даже можно увидеть по моей выставке в Курчатовском: как только возникла возможность, я тут же дал работы и получил по морде!.. Хотя все же от этой инициативы была и польза: мы познакомились с Севой!
Илья Кабаков тоже тонко чувствовал, что происходило, и ни в каких подпольных выставках здесь не участвовал.
Г. К.:А вы общались с другими художниками в те годы?
Э. Б.: Со многими – с тем же Вейсбергом, и Шварцманом, и другими. Я не могу сказать, что у меня замкнутый характер. С Вейсбергом у меня какое-то время были очень даже приятельские отношения.
Г. К.:Как вы считаете, вам 1960?е дали возможность выработать и определить для себя что-то новое в творчестве?
Э. Б.: Конечно, это было очень важное время. Я путался и ошибался, но какие-то основополагающие проблемы для моего сознания именно тогда и решались. Но результат всей этой работы сказался очень резко в 1971 году, потому что перед этим вышло два года перерыва, и хоть я не работал эти два года, в голове у меня что-то формировалось, и я проделал внутри себя большую работу. После этого я сразу стал со всеми много общаться, и начался совсем новый период.
Г. К.:Забыл спросить, Эрик: в ваши школьные годы случались какие-то «лучи света»?
Э. Б.: Я учился в художественной школе до 1952 года, и это были самые жуткие годы. Но я должен сказать, что я вспоминаю школу с любовью и благодарностью. Я слышал, что Илья Кабаков с каким-то отвращением отзывается о школе, и меня это крайне удивило, потому что там была очень хорошая атмосфера[15 - Этому вторит Юрий Злотников, рассказывая об открытках Сезанна, которые ему показывал учитель в художественной школе еще в 1940?е годы. Там же «была хорошая библиотека с книгами по искусству». Якобы «многие педагоги имели либеральное мировоззрение, не следовали принципам соцреализма буквально».]. Мы работали как сумасшедшие, нагрузки были огромные, хотя понятно, что не все рисовали помногу. И педагоги старались эту атмосферу поддерживать, не разрушать.
В институт я поступил в 1952 году, и ощущение было такое, как будто я попал в глухую, мрачную, жуткую провинцию. В основном все студенты были старше; многие уже прошли армию, воевали. И позже я понял, что им вовсе не нужно было искусство, как мне, а нужен был просто диплом, с которым они в провинции сразу занимали какие-то важные посты. А я уже на первом курсе попал в формалисты, да и вся школа наша считалась рассадником формализма, и отношения между начальством институтским и школьным были враждебные. Они даже сумели нашего директора школы в те годы посадить, хотя потом его быстро отпустили. Позже он стал работать на ВДНХ и давал мне работу, чтобы я мог подработать. В общем, я хотел сказать хоть какое-то доброе слово об этой школе, несмотря на все страшное, что происходило снаружи, в ней сохранялась хорошая атмосфера.
При этом я понимаю прекрасно, что мы ничего не знали. Могу рассказать такой позорный эпизод из моей жизни. Было это году в 1950?м или 1951?м. Один дальний мой родственник, профессор, оказался в Ленинграде, где стал преподавать. И он сказал мне, что у него есть знакомые и он может провести меня в запасник Эрмитажа. Я, конечно, обрадовался.
Мы пришли туда, и я спросил, можно ли увидеть Ренуара. Я совершенно не представлял себе, что такое Ренуар, и вообще больше никого не знал, но в школьной библиотеке была монография Грабаря о Валентине Серове, где по поводу его «Девушки, освещенной солнцем» было написано, что «она напоминает Ренуара». Кто такой Ренуар и что он сделал, было совершенно непонятно. Но картина мне нравилась, поэтому я так хотел узнать о прообразе.
Меня встретили в запаснике две пожилые интеллигентные, типично музейные дамы, которые сказали, что Ренуара, к сожалению, они показать мне не смогут, потому что он на реставрации, но могут показать не менее интересных художников.
«Кого бы вы хотели увидеть? – спросили они. – Давайте мы вам покажем Матисса!»
Я сказал: «Конечно». Они показали мне Матисса, но для меня это была просто мазня. И я в недоумении спросил: «А настоящего, серьезного художника у вас нет?»
Одна из дам грустно на меня посмотрела и спросила: «Скажите мне откровенно, вам искренне это не нравится?» Я ответил: «Да». И тогда она сказала: «Какой вы счастливый человек!» Эта ее фраза врезалась мне на всю жизнь.
И ведь я не был каким-то неучем: что можно было знать по тем временам, я знал и кого-то любил. Например, моим любимым художником был столь же запрещенный Врубель. Все время оказывалось так, что то, что мне нравится, запрещено. С этого и начинались наши конфликты с властью: если тебе что-то нравится, то даже если это еще не запрещено, то завтра обязательно запретят.
Г. К.:Да, это очень точное и важное наблюдение, спасибо.
Октябрь 2016 г., Москва
Таруса. В эпицентре искусства
Виктор Голышев
Георгий Кизевальтер:Ваша точка зрения на события и персоналии тех лет может быть очень любопытна, потому что вы являетесь фигурой, выпадающей из ряда, – не художник, не искусствовед, не писатель, но переводчик – и потому филолог, по образованию физик-математик – и потому «технарь». То есть у вас должна быть очень объемная и «неангажированная» картина той эпохи и ее культурной жизни. С чего началось тогда ваше знакомство с искусством?
Виктор Голышев: С беспрерывного хождения по музеям и многочисленным выставкам. Разумеется, ходил в Пушкинский, начиная с Дрезденской галереи, часто ходили вместе с Мишей Аникстом… Еще помню большую выставку копий (иллюстраций и напечатанных на батисте репродукций) произведений французских художников, сделанных по особой технике французским писателем Веркором[16 - Настоящее имя Жан Брюллер (1902–1991). (Прим. Г. К.)], организованную с помощью И. Эренбурга в начале 1957 года в каком-то подвале у гостиницы «Советская». Среди авторов – Пикассо, Матисс и другие постимпрессионисты. Веркор симпатизировал коммунистам, и потому его переводили у нас; он был уже известен как писатель и приемлем для властей. Но почему-то выставка проходила в подвале.
Г. К.:Видимо, для репродукций другого помещения не нашлось… А как и когда вы познакомились с Эдуардом Штейнбергом?
В. Г.: В 1955 году. Нам было по 18 лет. Мать с мужем снимали в Тарусе часть дома, а другую часть снимал Аркадий Штейнберг с семьей, и вместе с ними жил Борис Свешников. Они вместе с Аркадием и в лагере сидели и только недавно вернулись к нормальной жизни. А дети балбесничали. Эдик ловил рыбку, и ничто тогда не обещало занятий художествами. Но у Аркадия в доме была такая заразная атмосфера, что все, кто туда ходил, вскоре становились либо художниками, либо писателями. Бывший вор стал художником. Сосед мой по улице – тоже. И Эдик скоро написал первую картинку – под Рембрандта.
Когда ты молодой – тебе все интересно. Поскольку мы в одном доме жили, познакомились с Эдиком, при том что у нас интересы тогда разные были. А отец его был человеком очень разнообразных знаний, всем интересовавшийся. И он у меня все выпытывал про тепловую смерть Вселенной, хотел, чтобы я ему художественно рассказал об этом, а я не умел или не мог, хотя учился уже в МФТИ. Аркадий знал много из разных областей – конечно, не как специалист. Даже в лагере он выдал себя за врача, не имея никакого образования по этому профилю, но он нашел какие-то книжки по медицине и исполнял там функции врача. У него были апломб и реальная способность к самым разным занятиям.
А наш дом был поделен пополам. Отец рано умер, и на одной половине жил я с мачехой, Лидией Григорьевной Мали, она работала секретарем на курсах переводчиков ООН, а до этого секретарем художественного совета, а на другой – мать[17 - Елена Михайловна Голышева (1906–1984) – известный переводчик, член СП СССР.] с Оттеном[18 - Николай Давидович Оттен (1907–1983) – кинокритик, переводчик, сценарист.]. Они были очень светские люди, и у них всегда все собирались: приезжали разные гости, Оттен писал сценарий с Сергеем Васильевым, кто-то привозил книги. Это была художественная интеллигенция, и жизнь там кипела. А я в это время сидел больше на пляже, набирался сил.
Г. К.:Но вам их разговоры были интересны? Особенно когда стали старше, да?
В. Г.: Всегда! Я с детства сидел под столом и внимательно слушал взрослых. Но, действительно, это общение стало особенно интенсивным в 1960?е годы. Стали собираться «Тарусские страницы», появились другие идеи.
Г. К.:А кто все же собирал эти «Тарусские страницы»? Существует масса версий тех событий.
В. Г.: В Калуге были два человека: Роман Левита, работавший в издательстве и, возможно, партийный, и поэт Николай Панченко. А с тарусской стороны были Оттен и Паустовский. Они и собирали материалы. Я об этом могу судить потому, что все появлялись у нас. Появилась Надежда Яковлевна Мандельштам, она тоже в нашем доме жила. Из Калуги приезжал писатель Владимир Кобликов; возможно, он, как и многие другие, учился у Паустовского. Скажем, как Юрий Казаков… Приезжал Лева Кривенко, прошедший войну и писавший о ней правдивые истории; Борис Балтер, еще один фронтовик, ученик Паустовского. Потом откуда-то появился Владимир Максимов. Окуджава прислал своего «Школяра» из Москвы, он тоже был из калужской компании. Много принесли стихов разных поэтов. Очерки Надежды Мандельштам шли под псевдонимом Яковлева. Александр Гладков – оттеновский приятель – поместил воспоминания о Мейерхольде, у Юрия Трифонова была проза, кажется, очерк… Это – те, кого я запомнил. И я присутствовал при их разговорах. Калужские приезжали все время. Время было азартное: тогда можно было прорваться к человеческому. И, конечно, этот сборник получился покрепче, чем «Литературная Москва» в 1950?е годы. А потом пошли большие неприятности…
И примерно в это же время в Тарусе состоялась первая выставка авангардистов. Это был клуб и одновременно кинотеатр (на втором этаже) – небольшое двухэтажное здание. Я помню некоторых участников: Штейнберга, Воробьева, Вулоха, чья картина мне очень понравилась, Мишу Одноралова… Мой приятель, работавший на радио, сделал о выставке передачу. Из Москвы приезжали разные гости в рваных свитерах, художники из ВГИКа. Но выставку вскоре прикрыли.
Г. К.:А как вы познакомились с Бродским? Случайно или на профессиональной почве?
В. Г.: Конечно, случайно. В Москве он дружил с Ардовыми, у которых иногда останавливалась Ахматова. В это время в Питере его уже серьезно преследовали за «тунеядство», и ему пришлось уехать в Москву. И Ахматова ему сказала: «Поезжайте в Тарусу к Оттенам. Они меня не любят, но вас примут». Так это транслировал мне Бродский, а не любили они ее, видимо, не как человека, а как поэта. И он приехал в Тарусу; думаю, это было в конце декабря 1963 года. Я в это время как раз бросил работу, тоже приехал в Тарусу, и там мы познакомились. Общаться тогда с ним было легко. Он жил на половине матери, а у меня жил приятель Аниканов, писатель, и он нигде не работал. Но у него папа был второй секретарь ЦК Молдавии, посылал ему 60 рублей в месяц… Так Иосиф прожил у нас недели две, а потом отправился обратно в Питер. Там его задержали, судили и отправили в ссылку.
Г. К.:В то время он еще не был избалован славой, как я понимаю.
В. Г.: Пока он не уехал в Америку, не был. Хотя его все знали (и некоторые, кстати, не очень любили). Но я не сказал бы, что это «слава». Странная слава, когда тебя не печатают, а ты ходишь по домам и громко читаешь стихи… Когда он вернулся из ссылки, время от времени он приезжал к нам. Он мне понравился, отношения у нас были хорошие, и я не считал, как один мой приятель, что он «слишком громкий» или «слишком много о себе понимает». Нам ничего не надо было обсуждать, все было ясно и понятно.
Г. К.:Вы общались с ним до самого отъезда?
В. Г.: Да. Кстати, для меня стало неожиданностью, что он уезжает. Помню, мы сидели втроем с ним и Сергеевым[19 - Андрей Сергеев (1933–1998) – известный переводчик стихов, поэт и прозаик («Альбом для марок» и др.).], и зашел разговор о возможности стать где-нибудь поэтом-резидентом. Естественно, мы все зашлись от хохота, потому что это казалось совершенной фантастикой. Но как-то раз я спросил его прямо: «А ты уехать не хочешь?» Он сказал: «Об этом вообще речи нет». Так что для меня его отъезд стал неожиданностью. Но перед ним действительно поставили выбор – или на Запад, или на Восток. «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Так судьба распорядилась. Он и английского толком не знал, хотя читал английские стихи и мог их переводить. Он и с польского переводил… Но я дал ему однажды какой-то английский детектив, и он сказал: «Нет, старик, я это не потяну». Конечно, он был очень способным, поэтому через четыре года уже писал эссе по-английски, все чаще употребляя английские идиомы, и получалось шикарно. Это даже не мое мнение, как-то раз я спросил у английского поэта Питера Портера[20 - Peter Porter (1929–2010).] о стихах Бродского, и тот сказал: «Стихи – нет, а вот прозу он очень хорошо пишет». Понятно, что по переводам о стихах не всегда легко судить.
Г. К.:А у вас лично был интерес к поэзии в те годы?
В. Г.: У меня – нет. Тебя долго мучают стихами в школе, и мучают определенным образом – включают идеологию. Возникает идиосинкразия. Но кого-то я знал. Я читал Хлебникова в молодом возрасте, в 1956–1957 годах полюбил Мартынова, но остальные меня тогда мало интересовали.
Г. К.:И где же вы взяли Хлебникова?
В. Г.: У Оттена сохранился пятитомник, собранный Степановым и Тыняновым, и дополнительный том, который делал, кажется, Харджиев. У меня был год академического отпуска, и я все время читал их. Но не могу сказать, что вообще любил поэзию. Например, в Тарусе два года жил Заболоцкий, а я к нему не пошел и правильно сделал, потому что он после лагеря стал очень подозрительным, а мать с Оттеном пошли, и Оттен стал хвалить ему его «Столбцы». Но Заболоцкий, как мне сказали, подозрительно относился к чужим, кто хвалил «Столбцы», не знаю уж почему, может быть, постоянно боялся провокаций. Это был год 1957?й, наверное.
Г. К.:Иначе говоря, других молодых поэтов, помимо Бродского, вы не знали?