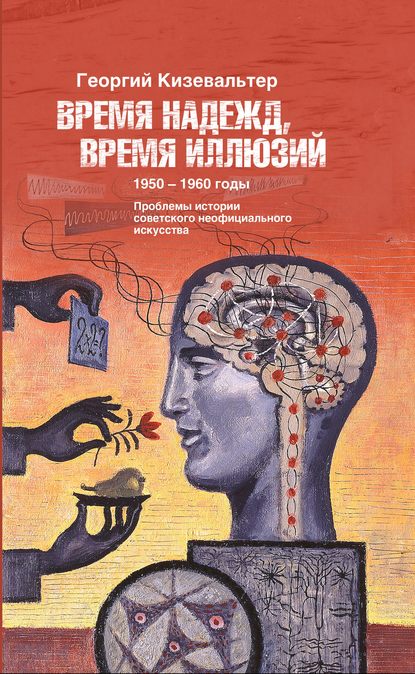По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Время надежд, время иллюзий. Проблемы истории советского неофициального искусства. 1950–1960 годы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В. Г.: В 1960?е? Нет, никого не знал. А кто тогда был? Смогисты? Ну, одного из них видел, но попозже. Он (имя не называю) читал стихи, там собралась местная интеллигенция, а я помирал от смеха. Вот вижу, как бы футуризм, но так смешно! Даже живот заболел от смеха, потому что нельзя было засмеяться… А наши «главные» поэты (Окуджава, Ахмадулина) – это были «чужие» дела, меня не касалось. Хотя Окуджаву все время крутили на магнитофоне на работе в институте (1961–1962 годы), мне показалось, что это слишком сладко, появлялось остервенение в душе. Либо Элвиса Пресли крутили, либо Окуджаву, и они хорошие, да, но наступало пресыщение.
Г. К.:Вы ходили на выставки художников в конце 1960?х?
В. Г.: Конечно, на молодежную на Кузнецком. Я хорошо помню работу Эдика. Там еще была работа Попкова… «Двое»? И много других художников его возраста, но я запомнил Эдика, потому что он сильно отличался от остальных. Поскольку он рыбачил, у него часто присутствовали рыбы. Или «Одуванчики» голубого цвета. У остальных была нормальная живопись. Еще запомнил Наташу Пархоменко из ВГИКа, но я ее знал раньше, может, поэтому. Помню, как они с Воробьевым и с Аникановым по Беломорско-Балтийскому каналу плавали и Эдик там несколько рисунков сделал. Думаю, это было в начале 1960?х.
С Эдиком интересно получилось. Почему он вышел в художники? Возможно, потому, что был такой упертый. Я видел, как люди способные и точно более обученные, чем он, бросались то за одной, то за другой модной системой: сегодня он ташист, завтра пишет а-ля Древин и т. д., а Эдик очень органично развивался сам. Несколько лет рисовал свои камни, потом плавно перешел к геометрии. Все развитие шло внутри него. Когда есть рынок, есть большой соблазн делать то, что нужно. Но на него это не действовало. А рынок тогда состоял из иностранцев. Они у тебя возьмут картинку, подарят рубашку или магнитофон, а жена в это время свои 70 рублей заработает. Можно жить. И хотя они с Галей жили бедно, люди у них всегда торчали.
Г. К.:Потому что была потребность в общении.
В. Г.: Конечно.
Г. К.:Как вы думаете, почему возникли левые? Откуда появилась эта тяга к иному?
В. Г.: Никто не мог бы объяснить, почему в конце 1950?х мы начинали искать Кафку, а не Леонида Соболева. В то время были люди, которые ловили многое как бы из воздуха, это восприимчивые люди с богатой интуицией, Бродский – один из них, или Валентин Воробьев, ныне живущий в Париже. Сильные вещи в искусстве создают поле притяжения, вовлекают в него других. Но почему-то это был не Леонардо, а Малевич или Кандинский. Например, попалась мне книга Кандинского «Ступени», я заинтересовался, потом начал искать картинки, смотреть каталоги… Конечно, сыграли роль выставки 1956–1957 годов, но главное шоковое событие – это американская выставка, где кроме пепси-колы было огромное количество живописи, и это ударило по мозгам. На французской выставке такого шока уже не было… Позже нашел книжку некоего Осипа Бескина «Формализм в живописи» 1933 года, где главными врагами объявлялись Древин, Тышлер, Лабас, Барто, Штеренберг и т. п. Но зато там можно было увидеть черно-белые репродукции картин этих художников, а ведь в то время их нигде не показывали. Или: на фестивале в парке Горького стоял большой сарай, и там – исландская геометрическая абстракция в желтых, оранжевых тонах… Таким способом все и заражались, я думаю. Пока ты подобных работ не увидел, ничего в голове и не поворачивалось.
Если вспоминать наших художников, то я работы Рабина первый раз увидел у Волконского на домашней выставке и хорошо их запомнил. С Волконским я тоже познакомился в Тарусе. У матери шла пьеса в театре им. Ленинского комсомола, и он написал к ней музыку, поэтому приехал в Тарусу и со многими подружился. Пару раз он играл там свои вещи в музыкальной школе, и мы с ним общались какое-то время. Потом я ходил к нему домой, он слушал пластинки Веберна. Андрей слыл тогда большим авангардистом, а позже все это проклял и обратился со своим ансамблем «Мадригал» исключительно к музыке Возрождения. Волконский был очень убежденным человеком, но убеждения менялись. Но помню, когда Юдина исполняла Волконского в Гнесинке (по-моему, Musica stricta два раза) для просвещения непривычных.
Г. К.:Можно ли вспомнить иные важные или интересные литературные явления 1960?х помимо, допустим, «Тарусских страниц»?
В. Г.: Ну, ходили вот эти машинописные книжки.
Г. К.:Самиздат?
В. Г.: Он тогда так еще не назывался. Как? Я не знаю. Были просто повести, романы. Скажем, «Новое назначение» Бека. Еще раньше маленькая книжка «Доктор Живаго», и это год 1958?й, я думаю. Тогда я смог быстро прочесть ее, а сейчас бы не смог, очень мелко… Солженицын: «В круге первом», «Раковый корпус»… «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, матери Аксенова. Были и стихи, конечно: Мандельштам, какие-то шестидесятники… Но слово «самиздат» появилось позже.
Г. К.:А «Синтаксис» Александра Гинзбурга не попадался тогда?
В. Г.: Я видел один выпуск. Гинзбург ведь тоже в Тарусе жил, на моей половине, недолго. Хотя фактически у нас четвертушка дома была – от отца осталась мне и мачехе. Поселили его без нашего спроса (вероятно, шел уже год 1964?й). И мачеха испугалась, потому что к нам стали менты ходить. С мачехой, кстати, я прожил гораздо дольше, чем с матерью, – лет на 20! Она тоже сидела, пять лет, и она боялась. Например, в доме все время бывали диссиденты, и это играло отрицательную роль. Она приезжает в отпуск (тогда надо было пойти в милицию и в своем доме прописаться), а ее не хотят прописывать по причине вот этих диссидентов. Оттен стал тогда звонить в Калугу, скандалить (он это любил), ну разрешили…
А познакомились с Гинзбургом мы даже раньше, когда в первый раз поехали в Лианозово к художникам. Это было в начале 1960?х, я думаю. Там были Рабин, Кропивницкий и другие. Кстати, старшего Кропивницкого я первый раз увидел у Волконского… И Алик тоже в Лианозово приехал. А позже у него в Тарусе тоже появилось жилье. Он работал там какое-то время электриком…
Когда ты живешь «на постном масле», подобные работы художников производят сильное впечатление, хотя вроде бы там нет ничего особенного. Это другая живопись, и папаша Кропивницкий, кстати, мне больше нравится, чем сын… Тебе открывается другой мир. В школе была тухлятина. А с Хрущевым все открылось. При всех его закидонах в то время было много положительного. С другой стороны, освобождение было не для всех. Например, для венгров оно тогда не пришло.
Июнь 2017 г., Москва
Мы – левые![21 - «1960 годом следует обозначить окончательное завершение процесса становления [группы независимых художников]. С этого года разрозненные единицы уже окончательно осознали себя отдельной от всех группой с самоназванием „московские левые“. <…> Зарубежные журналисты сразу же проявили интерес к явлению свободной художественной деятельности в окостеневшем советском пространстве. В западной прессе появились названия: „подпольные“, „неофициальные“, „диссиденты“, „нонконформисты“, „нелегальные“, „андеграунд“, и ни одно из этих наименований, разумеется, не отражало художественной сути дела. Мы продолжали называть себя левыми». М. Гробман. Второй русский авангард. C. 525. (Прим. Г. К.)]
Михаил Гробман
Георгий Кизевальтер:Давайте начнем с самого начала. В каком году вы занялись художественной деятельностью?
Михаил Гробман: В 1959 году в Ленинграде уже состоялась моя первая выставка.
Г. К.:Вы жили тогда в Ленинграде?
М. Г.: Нет, я жил в Москве, но в Ленинграде у меня было много друзей-приятелей, и я приехал к ним с очередным визитом. Я всегда таскал с собой пачку своих рисунков, и вот ребята увидели эту пачку и решили сделать мою выставку. Они развесили мои работы на стенах рабочих комнат Мухинского института на Фонтанке и открыли экспозицию. Впрочем, выставку почти сразу закрыли. Так прошло мое первое художественное выступление.
Г. К.:А все же кем вы были по образованию – художником или литератором?
М. Г.: Что такое образование? Я категорически, принципиально не хотел иметь официального образования. Я тогда много рисовал, занимался в разных студиях, а что касается литературы, то уже в 1956 году я выступал на радио со стихами – что-то про курицу, потерявшую своих цыплят. И поэтому дальше мне всю жизнь пришлось писать и рисовать. В 1960?е я уже печатал стихи в эмигрантской прессе – в «Воздушных путях» и «Новом журнале», выходивших в Нью-Йорке, под псевдонимами Михаил Русалкин и Г. Д. Е. А тем, что можно назвать неформальным образованием, я обязан своим близким друзьям.
Г. К.:Кто были эти люди?
М. Г.: Грузинский композитор и скрипач Арчил Надирашвили – замечательный человек и педагог, сильно на меня повлиявший, – был моим самым первым учителем в том, что касается культуры. Благодаря ему в сфере моих интересов оказались такие книги, как «Обоснование интуитивизма» Николая Лосского, и другие философские сочинения. А с рисованием все просто – мы рождаемся и сразу начинаем рисовать. Но потом общество выбивает у большинства людей эту дурь.
Г. К.:Увы, это так. Но вот эти друзья, организовавшие вам выставку в 1959 году, – они тоже были художники?
М. Г.: Да. Хотя среди них были и литераторы, например Виктор Голявкин (но он еще и художник). А вторым «учителем», на меня сильно повлиявшим, был Володя Гершуни, поэт и политзаключенный. Я познакомился в то время со многими людьми, вернувшимися из лагерей, и это очень укрепило меня в моей жизненной позиции, в неприятии советской власти. После этого и начался мой, как говорят у христиан, подвиг. В России, как я считаю, были два вида свободных людей – уголовники и левые художники. Я выбрал второй путь. Но уже в 1957 году я совершил действие совершенно иного плана. Я выступил на торжественном вечере, посвященном выставке к 40-летию советского искусства в ЦДРИ, с антисоветской речью. В президиуме сидели важные люди типа Кибрика или Ефимова, а я из зала крикнул: «Можно задать вопрос?» Мне разрешили, я вышел на сцену. У меня была бритая макушка, «под Маяковского», широкие штаны, и я произнес в микрофон следующие слова: «Бывали хуже времена, но не было подлей». Зал окоченел. Потом я добавил, что Маяковский перестал быть поэтом, когда он стал коммунистом. Из публики закричали: «А кто ты такой?» – и я ответил: «Я каменщик, Михаил Гробман». Тут уже меня схватили и вынесли из зала… А позже на допросах они долго спрашивали, в какой организации я состою, и никак не могли поверить, что я сам по себе такой идиот, без соратников, и даже не понимаю, что натворил.
Г. К.:И вы в это же время начали рисовать?
М. Г.: Рисовал я с детства, но около 1959 года я стал делать кубистические рисунки, сделанные под влиянием русского футуризма. В то время можно было найти много материалов по футуристам и прочим авангардистам в Ленинской библиотеке, там были бесценные сокровища!
Г. К.:Вам кто-то говорил, что можно найти, или вы сами случайно находили?
М. Г.: Я сам находил: у меня были длинные списки того, что нужно было усвоить и прочесть! Когда я наталкивался на какую-то важную книгу, я просматривал на последней странице и выписывал себе все названия книг, которые это издательство уже выпустило к тому времени. Это очень мне помогало, и я сам научился тому, где и как искать.
Г. К.:Итак, основная ваша деятельность проходила в Москве. С кем из художников вы сблизились в самом начале?
М. Г.: У меня, разумеется, было много друзей, но если говорить о первых художественных знакомствах, то это прежде всего Володя Пятницкий. Он тогда учился в университете на биологическом или математическом факультете. Как-то раз я пришел к нему в то время, как он занимался монотипией. Я попросил попробовать и наклепал целую пачку на оборотах рукописи диссертации его отца. С этой пачкой мы пошли в Ленинку и стали со смехом рассказывать в курилке, что мы открыли нового художника. Все обалдели.
А в моей коллекции есть его первая работа, которую он у меня нарисовал: я дал ему лист бумаги, тушь, и он сделал работу, которая долго у меня висела. Приблизительно в то же время я попал в Лианозово. Там был свой ритуал показа работ: сначала Рабин, потом Лев Кропивницкий, потом Вечтомов и др. В какой-то момент и Валя Кропивницкая начала делать свои наивные рисунки. Со временем я подружился с Евгением Леонидовичем Кропивницким, и он даже написал обо мне стихотворение. Своего ближайшего друга Владимира Яковлева я увидел впервые у Оскара Рабина – он ходил по комнате, рассматривал картины на стенах, и я запомнил его слова «вкус пепла», сказанные о Рабине. В Яковлеве было что-то таинственное, когда он что-то говорил, к нему прислушивались. Так, как он смотрел картины, облизывал их вблизи и издали, так никто не умел смотреть, и было ясно, что это человек особого порядка. Постепенно по поводу него сложился консенсус, что он лидер, это признавал даже Зверев, который вообще никого не признавал. Впрочем, тогда, у Рабина, мы не познакомились, но вскоре позвонил Алик Гинзбург и говорит: «У нас тут есть один художник, ему негде ночевать, не мог бы ты его приютить?» Я, конечно, сказал «да», и так ко мне попал Яковлев.
Г. К.:Вы ведь жили в районе Текстильщики, если не ошибаюсь? И что было у вас во владении – комната, квартира, дом?
М. Г.: У меня там была комната в коммунальной квартире, где еще жили мои родители и другие люди. Эти дома принадлежали заводу «Клейтук», где отец работал главным инженером, и мы из веранды сделали комнату, где я жил и рисовал, и ко мне туда приходили бесконечные друзья, а остальные не могли понять, что же это за люди к Мишке ходят. Вскоре стала складываться коллекция. Впрочем, коллекцией это нельзя было назвать. У меня накапливались работы тех моих друзей, которые что-то представляли собой как художники и соотносились с тем, что делалось на Западе. Мы были хорошо осведомлены.
Г. К.:Откуда?
М. Г.: Мы получали книги от своих друзей, это были дипломаты, корреспонденты, культурные люди. Что-то можно было купить в букинистических… Не забывайте, что мы были очень молоды, что это было новое поколение и совсем новое восприятие.
Г. К.:Вы начали собирать свою коллекцию в начале 1960?х?
М. Г.: Это даже трудно назвать коллекционированием – ко мне просто приезжали самые разные люди, я показывал им свои работы, работы своих друзей и приятелей, то, что я считал наиболее интересным. Происходили иногда обмены. Что означали «обмены»? В то время любой художник мог взять у меня понравившуюся ему работу и наоборот. С этим никакой проблемы не было. С одной стороны, было трепетное отношение к своему искусству, а с другой – был свободный доступ, и никто не жадничал. Тогда же я начал собирать работы футуристов: книги, рисунки, ютившиеся в сундуках у родственников и друзей художников и никому тогда еще не нужные.
Г. К.:Можно ли сказать, что у вас образовался салон?
М. Г.: Нет, ни в коем случае. Хотя салоны тогда были, скажем, у Фриде… и настоящие коллекционеры были.
Г. К.:Например, кто?
М. Г.: Например, Цырлин Илья Иоганнович. Он жил в Шаляпинском доме рядом с американским посольством. Там у него была огромная комната, где я регулярно бывал. Настоящие коллекционеры, как правило, приобретали и продвигали одного «своего» художника: Цырлин – Кулакова, Костаки – Зверева, Волконский – Яковлева. Мое собрание в результате оказалось самым широким. Кстати, о смерти Пастернака я узнал, сидя у Цырлина. Пришел Володя Вейсберг и сообщил нам об этом. Это была печальная весть, потому что для нас Пастернак был значимой фигурой в поэзии, это не гладкость ленинградцев с их Анной Ахматовой… Но основное влияние на нас оказали футуристы.
Г. К.:То есть их деятельность интересовала всех?
М. Г.: Не то чтобы всех, но многих. Тогда это было доступно! Имелись замечательные книжки, вышедшие после революции; надо было только знать, что ты хочешь найти. И это было очень важно для нас.
Г. К.:Доступны они были в том смысле, что имелись в библиотеках?