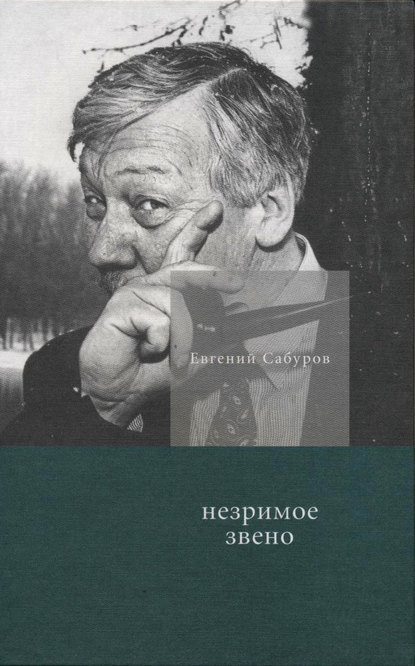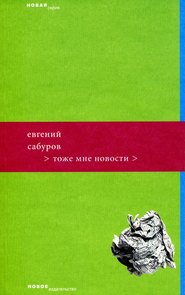По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Незримое звено. Избранные стихотворения и поэмы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Нечисть чешется в затылке,
мертвым воздухом шурша.
Они будут тело кушать
пучить газами земли.
Боже, Боже, наши души
в чистом небе потекли.
На недавние руины
поселковый кинь субботник
и приятная картина
вызреет как плод работы.
Вновь назначенный начальник
службы укрепленья линий
сползших масс береговых
клятвенно нам обещает
– кровь из носу, нож под дых —
больше оползни не пикнут.
Он бетоном их зальет,
чтобы гнусная природа,
так потрясшая народ,
больше не трясла народа.
Ходит море лижет гальку
пеною своей морской,
ляжет бабка черной галкой —
со святыми упокой.
Склон, где бывшая дорога,
виноградником порос,
и задумчивый совхоз
просит постараться Бога,
чтобы ни дождя, ни гроз.
Пьяной осенью у свала
обнажившегося камня
ты соски мне целовала,
а потом себя дала мне.
Нежной кожей живота
по губам моим водила
и колечком завита
медом медленным сочилась,
и себя не отнимая,
только подогнув колени,
с моря тихого снимала
темную ночную пену.
У цветов не спросишь имя,
у дороги путь не спросишь.
Ты куда уходишь мимо
в край, безмолвием поросший?
«Куколка, балетница, вображала, сплетница…»
Куколка, балетница, вображала, сплетница,
два притопа, три прихлопа
на асфальтовом дворе
и сквозит в весенних тучах
солнце, два тяжелых месяца
землю залучилось пучить
плечи загорелось греть.
Бело-розовые плечи
наших тучных одноклассниц
плавают в писклявой речи
кисло-масляных орясин.
И когда в субботу в парке
быстро сделавши уроки
мы на лавочках попарно
друг из друга давим соки,
мерным дымом, звездной сыпью
небо черное цветет.
Излечившись вдруг от гриппа
я гляжу на небосвод.
Мир мой, полный пустотой,
куколка локтем подвинет,
а балетница откинет
тренированной ногой.
Страшная воображала
нависает над домами —
страшных деток нарожала
и ушла обратно к маме.
Ориана, Паламед,
трое малых из Тамбова
и приятель, от котлет
вытащивший на полслова
нас, а с неба льет и льет.
Облако никак не сдвинет
ветер, и еще невинный
я гляжу на небосвод.
мертвым воздухом шурша.
Они будут тело кушать
пучить газами земли.
Боже, Боже, наши души
в чистом небе потекли.
На недавние руины
поселковый кинь субботник
и приятная картина
вызреет как плод работы.
Вновь назначенный начальник
службы укрепленья линий
сползших масс береговых
клятвенно нам обещает
– кровь из носу, нож под дых —
больше оползни не пикнут.
Он бетоном их зальет,
чтобы гнусная природа,
так потрясшая народ,
больше не трясла народа.
Ходит море лижет гальку
пеною своей морской,
ляжет бабка черной галкой —
со святыми упокой.
Склон, где бывшая дорога,
виноградником порос,
и задумчивый совхоз
просит постараться Бога,
чтобы ни дождя, ни гроз.
Пьяной осенью у свала
обнажившегося камня
ты соски мне целовала,
а потом себя дала мне.
Нежной кожей живота
по губам моим водила
и колечком завита
медом медленным сочилась,
и себя не отнимая,
только подогнув колени,
с моря тихого снимала
темную ночную пену.
У цветов не спросишь имя,
у дороги путь не спросишь.
Ты куда уходишь мимо
в край, безмолвием поросший?
«Куколка, балетница, вображала, сплетница…»
Куколка, балетница, вображала, сплетница,
два притопа, три прихлопа
на асфальтовом дворе
и сквозит в весенних тучах
солнце, два тяжелых месяца
землю залучилось пучить
плечи загорелось греть.
Бело-розовые плечи
наших тучных одноклассниц
плавают в писклявой речи
кисло-масляных орясин.
И когда в субботу в парке
быстро сделавши уроки
мы на лавочках попарно
друг из друга давим соки,
мерным дымом, звездной сыпью
небо черное цветет.
Излечившись вдруг от гриппа
я гляжу на небосвод.
Мир мой, полный пустотой,
куколка локтем подвинет,
а балетница откинет
тренированной ногой.
Страшная воображала
нависает над домами —
страшных деток нарожала
и ушла обратно к маме.
Ориана, Паламед,
трое малых из Тамбова
и приятель, от котлет
вытащивший на полслова
нас, а с неба льет и льет.
Облако никак не сдвинет
ветер, и еще невинный
я гляжу на небосвод.
Другие электронные книги автора Евгений Сабуров
Тоже мне новости




 1.6
1.6