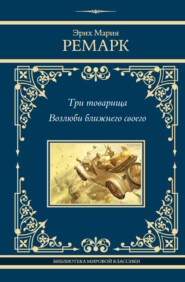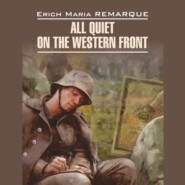По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Возлюби ближнего своего. Ночь в Лиссабоне
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Очень просто. Главное – дрессировка. И терпение. Мне когда-то сказали, что, если иметь терпение, можно дрессировать даже камни.
Укротитель хитро прищурился.
– Знаешь, Чарли, с Александром Вторым я придумал один трюк. Я заставил эту скотину перед представлением полчаса тянуть пушку. Тяжелую мортиру. От этого он устал. А усталость делает послушным.
– Пушку? – спросила Рут. – Неужели пушки есть даже у блох?
– И даже тяжелая полевая артиллерия. – Укротитель великодушно позволил Александру Второму в порядке поощрения укусить себя в подмышку. – Сейчас это самая популярная вещь, мадам. А то, что популярно, то и прибыльно.
– Однако они не стреляют друг в друга, – сказал Керн. – Они не истребляют друг друга – в этом они умнее нас.
Они пошли к аттракциону «Механические автогонки».
– Добрый день, Пеппи! – рявкнул человек у входа, перекрывая лязг металла. – Возьмите номер семь, он отлично таранит.
Они сорвались с места, столкнулись с другими и скоро оказались в общей сутолоке. Керн засмеялся и бросил руль. Рут, сосредоточенно нахмурившись, всерьез попыталась рулить, но тоже бросила, повернулась к Керну, словно извиняясь, и улыбнулась – редкой улыбкой, освещавшей ее лицо и придававшей ему детское выражение. Тогда вдруг становились заметными красные полные губы, а брови не казались больше тяжелыми.
Они обошли еще полдюжины аттракционов – от считающих тюленей до индийского предсказателя будущего; им нигде не пришлось платить.
– Вот видишь, – гордо сказал Керн, – они даже путают мое имя; но нам везде свободный вход. Это – высшее проявление народного единства.
– А нас пустят бесплатно на чертово колесо? – спросила Рут.
– Конечно! Как артистов директора Поцлоха. Даже с особыми почестями. Пошли туда.
– Сервус, Шани! – сказал человек за кассой. – Барышня – невеста?
Керн кивнул, покраснел и отвел глаза от Рут.
Человек взял из лежавшей перед ним стопки две яркие почтовые открытки и вручил их Рут. Это были снимки колеса с панорамой Вены.
– Возьмите на память, барышня.
– Большое спасибо.
Они залезли в кабинку и уселись у окна.
– Я не стал объясняться с ним насчет невесты, – сказал Керн. – Это было бы слишком долго.
Рут засмеялась.
– Зато нам оказаны особые почести в виде открыток. Только ни ты, ни я не знаем, кому бы их послать.
– Да, – сказал Керн. – Я не знаю. А у тех, кого я знаю, нет адреса.
Кабина, покачиваясь, медленно поднималась вверх, а под ней постепенно разворачивалась, как огромный веер, панорама Вены. Сначала Пратер со светлыми шнурами освещенных аллей, лежавших двойным жемчужным ожерельем на темном затылке леса; потом, как огромная брошь из рубинов и изумрудов, ярко засиял городок аттракционов; и наконец почти незаметно возник сам город, со всеми его огнями, а за ним узкий, темный дым поездов на холмах.
Они были одни в кабине, поднимавшейся все выше по широкой дуге, а потом соскользнувшей влево, – и вдруг им показалось, что это больше не кабина, а бесшумный аэроплан, и под ними медленно поворачивается земля, и они больше не принадлежат ей, а летят в призрачном самолете, который нигде не находит посадочной площадки и под которым пролетают тысяча родин, тысяча освещенных домов и комнат. Вечерний свет возвращения – до самых дальних горизонтов, лампы и квартиры, и над ними надежные крыши, и они зовут и манят, и ни одна не пускает их. Они парят надо всем во тьме без родины и приюта, и все, что они смогли зажечь, была безутешная свеча тоски…
Окна жилого вагончика были открыты настежь. Было душно и очень тихо. Лило постелила на кровать пестрое одеяло, а на постель Керна – бархатный занавес из тира. В окне покачивались два китайских фонарика.
– Сегодня у нас венецианская ночь кочевников, – сказал Штайнер. – Вы были в маленьком концлагере?
– Что ты имеешь в виду?
– Аттракцион с привидениями.
– Да.
Штайнер рассмеялся.
– Подвалы, застенки, цепи, кровь и слезы – аттракцион вдруг стал современным, не так ли, маленькая Рут? – Он встал. – Предлагаю выпить по стакану водки. – Он взял со стола бутылку. – А вы выпьете, Рут?
– Да, большой стакан.
– А Керн?
– Двойную порцию.
– Дети, вы делаете успехи! – сказал Штайнер.
– Я должен выпить просто потому, что радуюсь жизни, – заявил Керн.
– Дай и мне стакан, – сказала Лило, вошедшая с блюдом поджаристых пирожков.
Штайнер разлил водку. Потом он поднял свой стакан и усмехнулся.
– Да здравствует депрессия! Темная мать радости жизни!
Лило поставила блюдо и принесла глиняную миску с огурцами и тарелку черного русского хлеба. Потом она взяла свой стакан и медленно выпила. Свет китайских фонариков мерцал в прозрачной жидкости, и казалось, что она пила из розового алмаза.
– Дашь мне еще стакан? – попросила она Штайнера.
– Сколько тебе угодно, моя печальная дочь степей. Рут, а как вы?
– Я тоже еще выпью.
– И мне дайте, – сказал Керн. – Мне повысили гонорар.
Они выпили, а потом ели горячие пирожки с мясом и капустой. Штайнер сидел на кровати и курил. Керн и Рут уселись на полу, на постели Керна. Лило входила и выходила и убирала посуду. Ее большая тень скользила по стенам вагончика.
– Спой что-нибудь, Лило, – сказал немного погодя Штайнер.
Она кивнула и взяла гитару, висевшую в углу на стене. Ее голос, такой хриплый, когда она говорила, стал ясным и глубоким, когда она запела. Она сидела в полутьме. Ее обычно неподвижное лицо оживилось, а в глазах появился какой-то дикий и печальный блеск. Она пела русские народные песни и старые колыбельные песни цыган. Потом умолкла и поглядела на Штайнера. В глазах ее отражался свет.
– Пой, – сказал Штайнер.
Она кивнула и взяла несколько аккордов на гитаре. Потом начала напевать короткие однообразные мелодии, из которых иногда поднимались слова, как поднимаются птицы из темноты степей, – песни странствий, мимолетного покоя среди шатров, и казалось, что этот вагончик в неспокойном свете фонариков превращается в шатер, наскоро разбитый в ночи, а завтра всем им придется идти дальше.
Укротитель хитро прищурился.
– Знаешь, Чарли, с Александром Вторым я придумал один трюк. Я заставил эту скотину перед представлением полчаса тянуть пушку. Тяжелую мортиру. От этого он устал. А усталость делает послушным.
– Пушку? – спросила Рут. – Неужели пушки есть даже у блох?
– И даже тяжелая полевая артиллерия. – Укротитель великодушно позволил Александру Второму в порядке поощрения укусить себя в подмышку. – Сейчас это самая популярная вещь, мадам. А то, что популярно, то и прибыльно.
– Однако они не стреляют друг в друга, – сказал Керн. – Они не истребляют друг друга – в этом они умнее нас.
Они пошли к аттракциону «Механические автогонки».
– Добрый день, Пеппи! – рявкнул человек у входа, перекрывая лязг металла. – Возьмите номер семь, он отлично таранит.
Они сорвались с места, столкнулись с другими и скоро оказались в общей сутолоке. Керн засмеялся и бросил руль. Рут, сосредоточенно нахмурившись, всерьез попыталась рулить, но тоже бросила, повернулась к Керну, словно извиняясь, и улыбнулась – редкой улыбкой, освещавшей ее лицо и придававшей ему детское выражение. Тогда вдруг становились заметными красные полные губы, а брови не казались больше тяжелыми.
Они обошли еще полдюжины аттракционов – от считающих тюленей до индийского предсказателя будущего; им нигде не пришлось платить.
– Вот видишь, – гордо сказал Керн, – они даже путают мое имя; но нам везде свободный вход. Это – высшее проявление народного единства.
– А нас пустят бесплатно на чертово колесо? – спросила Рут.
– Конечно! Как артистов директора Поцлоха. Даже с особыми почестями. Пошли туда.
– Сервус, Шани! – сказал человек за кассой. – Барышня – невеста?
Керн кивнул, покраснел и отвел глаза от Рут.
Человек взял из лежавшей перед ним стопки две яркие почтовые открытки и вручил их Рут. Это были снимки колеса с панорамой Вены.
– Возьмите на память, барышня.
– Большое спасибо.
Они залезли в кабинку и уселись у окна.
– Я не стал объясняться с ним насчет невесты, – сказал Керн. – Это было бы слишком долго.
Рут засмеялась.
– Зато нам оказаны особые почести в виде открыток. Только ни ты, ни я не знаем, кому бы их послать.
– Да, – сказал Керн. – Я не знаю. А у тех, кого я знаю, нет адреса.
Кабина, покачиваясь, медленно поднималась вверх, а под ней постепенно разворачивалась, как огромный веер, панорама Вены. Сначала Пратер со светлыми шнурами освещенных аллей, лежавших двойным жемчужным ожерельем на темном затылке леса; потом, как огромная брошь из рубинов и изумрудов, ярко засиял городок аттракционов; и наконец почти незаметно возник сам город, со всеми его огнями, а за ним узкий, темный дым поездов на холмах.
Они были одни в кабине, поднимавшейся все выше по широкой дуге, а потом соскользнувшей влево, – и вдруг им показалось, что это больше не кабина, а бесшумный аэроплан, и под ними медленно поворачивается земля, и они больше не принадлежат ей, а летят в призрачном самолете, который нигде не находит посадочной площадки и под которым пролетают тысяча родин, тысяча освещенных домов и комнат. Вечерний свет возвращения – до самых дальних горизонтов, лампы и квартиры, и над ними надежные крыши, и они зовут и манят, и ни одна не пускает их. Они парят надо всем во тьме без родины и приюта, и все, что они смогли зажечь, была безутешная свеча тоски…
Окна жилого вагончика были открыты настежь. Было душно и очень тихо. Лило постелила на кровать пестрое одеяло, а на постель Керна – бархатный занавес из тира. В окне покачивались два китайских фонарика.
– Сегодня у нас венецианская ночь кочевников, – сказал Штайнер. – Вы были в маленьком концлагере?
– Что ты имеешь в виду?
– Аттракцион с привидениями.
– Да.
Штайнер рассмеялся.
– Подвалы, застенки, цепи, кровь и слезы – аттракцион вдруг стал современным, не так ли, маленькая Рут? – Он встал. – Предлагаю выпить по стакану водки. – Он взял со стола бутылку. – А вы выпьете, Рут?
– Да, большой стакан.
– А Керн?
– Двойную порцию.
– Дети, вы делаете успехи! – сказал Штайнер.
– Я должен выпить просто потому, что радуюсь жизни, – заявил Керн.
– Дай и мне стакан, – сказала Лило, вошедшая с блюдом поджаристых пирожков.
Штайнер разлил водку. Потом он поднял свой стакан и усмехнулся.
– Да здравствует депрессия! Темная мать радости жизни!
Лило поставила блюдо и принесла глиняную миску с огурцами и тарелку черного русского хлеба. Потом она взяла свой стакан и медленно выпила. Свет китайских фонариков мерцал в прозрачной жидкости, и казалось, что она пила из розового алмаза.
– Дашь мне еще стакан? – попросила она Штайнера.
– Сколько тебе угодно, моя печальная дочь степей. Рут, а как вы?
– Я тоже еще выпью.
– И мне дайте, – сказал Керн. – Мне повысили гонорар.
Они выпили, а потом ели горячие пирожки с мясом и капустой. Штайнер сидел на кровати и курил. Керн и Рут уселись на полу, на постели Керна. Лило входила и выходила и убирала посуду. Ее большая тень скользила по стенам вагончика.
– Спой что-нибудь, Лило, – сказал немного погодя Штайнер.
Она кивнула и взяла гитару, висевшую в углу на стене. Ее голос, такой хриплый, когда она говорила, стал ясным и глубоким, когда она запела. Она сидела в полутьме. Ее обычно неподвижное лицо оживилось, а в глазах появился какой-то дикий и печальный блеск. Она пела русские народные песни и старые колыбельные песни цыган. Потом умолкла и поглядела на Штайнера. В глазах ее отражался свет.
– Пой, – сказал Штайнер.
Она кивнула и взяла несколько аккордов на гитаре. Потом начала напевать короткие однообразные мелодии, из которых иногда поднимались слова, как поднимаются птицы из темноты степей, – песни странствий, мимолетного покоя среди шатров, и казалось, что этот вагончик в неспокойном свете фонариков превращается в шатер, наскоро разбитый в ночи, а завтра всем им придется идти дальше.