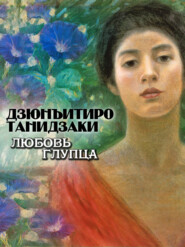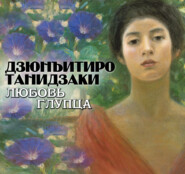По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кому-то и полынь сладка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На старике была чесучовая накидка какого-то неопределенного оттенка, ближе, пожалуй, к табачно-зеленому, весьма изысканная и в то же время неброская, совсем как одежда на куклах. Вероятно, нечто подобное можно было увидеть в минувшие времена на каком-нибудь ученом конфуцианце, враче или художнике. Под нею было добротное темное авасэ[22 - Авасэ – кимоно на подкладке, которое носят в холодное время года.] с мелким тканым узором и нижнее кимоно из желтого шелка в черную полоску, проглядывавшее кое-где в отверстиях рукавов. Он сидел, опершись левым локтем о перегородку ложи и заведя руку за спину, отчего ворот накидки топорщился, делая более заметной сутулость его плеч, – и одеждой, и повадками он старался подчеркнуть свой возраст. «Старик должен выглядеть по-стариковски», – любил повторять он. Скорее всего, и нынешний костюм был призван служить иллюстрацией к его кредо: «После пятидесяти мужчине не пристало одеваться чересчур щеголевато, в таком виде он, напротив, будет казаться старше своих лет». Постоянные упоминания тестя о своем возрасте забавляли Канамэ, ведь на самом деле «старик» был не так уж и стар. Если учесть, что он женился лет в двадцать пять и что его супруга, ныне покойная, родила их первую дочь, Мисако, вскоре после свадьбы, получалось, что ему никак не больше пятидесяти шести. Недаром Мисако считала, что он все еще не чужд плотских вожделений, а Канамэ и прежде говорил: «Изображать из себя старика стало для твоего отца очередным развлечением».
– Боюсь, вам неудобно. Вы можете вытянуть ноги… – участливо проговорила О-Хиса, обращаясь к Мисако.
Она без устали хлопотала в тесной ложе, разливая чай, предлагая сладости, пытаясь – без особого, впрочем, успеха – заговаривать с Мисако, а в промежутках следила за тем, чтобы вовремя наполнить чарку, которую старик, отведя назад правую руку, ставил на краешек подноса для курительных принадлежностей. Недавно он провозгласил, что «сакэ следует пить только из лаковой посуды», и потому сегодня ему была подана одна из трех захваченных из дома чарок красного лака с золотой росписью, воспроизводящей в миниатюре пейзажи знаменитой серии «Пятьдесят три станции Токайдоского тракта»[23 - Серия гравюр на дереве (укиё-э), созданная знаменитым художником Андо Хиросигэ (1797–1858).]. Все – и сакэ, и закуски, и столовая утварь – было привезено из Киото в специальном переносном сундучке, с какими в старину придворные дамы отправлялись на любование сакурой. Подобная предусмотрительность отнюдь не служила к пользе существовавшего при театре чайного заведения, не говоря уж о том, скольких забот она требовала от О-Хиса.
– Не хотите ли сакэ? – спросила О-Хиса, протягивая Канамэ извлеченную из сундучка чарку.
– Спасибо, не откажусь. Вообще-то днем я не пью, но без пальто здесь холодновато…
Наливая Канамэ сакэ, О-Хиса коснулась его щеки уложенной валиком боковой прядью, и он почувствовал исходящий от ее волос едва уловимый запах гвоздичного масла. Канамэ заглянул в наполненную до краев чарку, на дне которой поблескивал золотой силуэт горы Фудзи с раскинувшимся у ее подножия селением; все было выписано тщательной кистью в духе Хиросигэ, а сбоку виднелась надпись: «Нумадзу»[24 - Нумадзу – одна из почтовых станций Токайдоского тракта, селение (теперь – город) в восточной части нынешней префектуры Сидзуока.].
– Из такой изысканной вещицы даже как-то неловко пить, – проговорил Канамэ.
– Правда? – улыбнулась О-Хиса, обнажив потемневшие зубы – этот непременный атрибут типичной киотоской женщины. Верхние резцы у нее приобрели оттенок кожицы баклажана и выглядели так, словно она покрыла их черным лаком на манер старинной красавицы, а правый клык выдавался вперед, задевая о верхнюю губу. Возможно, кто-то и нашел бы это зрелище трогательным в своей безыскусности, но, говоря по справедливости, рот О-Хиса никак нельзя было назвать красивым. «Не женщина, а какая-то нечистоплотная дикарка!» – отзывалась о ней Мисако. Пожалуй, О-Хиса все же не заслуживала столь сурового приговора, – скорее, ее следовало пожалеть за то, что она до сих пор не догадалась заняться своими зубами и привести их в порядок.
– Неужели вы привезли все эти яства с собой? – спросил Канамэ, принимая из рук О-Хиса тарелочку, на которой лежали норимаки[25 - Норимаки – завернутый в тонкий листок сушеных водорослей (нори) рис с начинкой; разновидность суси.] с омлетом.
– Да.
– Представляю себе, какая это тяжесть. Теперь вам придется везти всю утварь назад?
– Конечно. Пожилой господин считает, что угощение из чайной никуда не годится…
Мисако обернулась и, метнув короткий взгляд в их сторону, снова обратила лицо к сцене. Время от времени, пытаясь устроиться поудобнее, она ненароком касалась ступнями коленей сидевшего позади нее мужа и всякий раз резким движением отдергивала ноги. Канамэ горько усмехнулся: до чего же трудно им в этой тесноте не выдавать недовольства друг другом!
– Ну как? Тебе нравится спектакль? – вкрадчиво спросил он жену в надежде смягчить возникшее между ними напряжение.
– Вероятно, вы привыкли к более увлекательным зрелищам, – заметила О-Хиса, – но иной раз поглядеть старинную кукольную пьесу тоже приятно.
– Я смотрю в основном на мимику гидаю[26 - Гидаю – наименование певца-рассказчика в японском кукольном театре; восходит к имени Такэмото Гидаю (1651–1714), прославленного мастера песенного сказа.]. Это занятнее, чем глядеть на кукол, – отозвалась Мисако.
Старик демонстративно кашлянул, давая понять, что они мешают ему своим шушуканьем. Не сводя глаз со сцены, он шарил возле себя рукой в поисках курительных принадлежностей. Кожаный кисет с золотым тиснением и изображением обезьянки вскоре нашелся – старик обнаружил его у себя под коленом, трубка же куда-то запропастилась. В конце концов О-Хиса извлекла ее из-под подушки для сидения и, раскурив, вложила старику в протянутую ладонь. Потом, словно спохватившись, вынула из-за пояса дамский кисет из алой тафты и, откинув клапан, запустила в него свои маленькие белые пальчики.
«И впрямь, кукольную драму нужно смотреть именно так: когда рядом с тобой любовница, а в руке чарка», – подумал Канамэ, разомлев от выпитого сакэ. Теперь, когда в ложе воцарилось молчание, он от нечего делать устремил взор на сцену. Первое действие драмы «Остров Небесных Сетей»[27 - «Остров Небесных Сетей» (полное название: «Самоубийство влюбленных на Острове Небесных Сетей») – одно из самых известных произведений великого японского драматурга Тикамацу Мондзаэмона (1653–1724). Пьеса основана на реальных событиях, произошедших в Осаке в 1703 г., и повествует о двойном самоубийстве влюбленных – торговца бумагой Дзихэя и девушки Кохару из «веселого квартала». Русский перевод см. в кн.: Тикамацу Мондзаэмон. Драматические поэмы. М.: Изд-во «Художественная литература», 1968.] было в самом разгаре. Чарка, которую поднесла ему О-Хиса, оказалась большего размера, чем обычно, и он слегка захмелел. У него рябило в глазах, сцена уплывала куда-то вдаль, и приходилось делать усилие, чтобы разглядеть лица кукол и узоры на их одеждах. Напрягая зрение, Канамэ сфокусировал взгляд на главной героине – куртизанке Кохару, которая сидела с левой стороны сцены. Лицо Дзихэя, ее возлюбленного, тоже было не лишено своеобразного очарования и чем-то напоминало маску театра Но[28 - Но (букв.: «умение», «мастерство») – средневековый японский театр, сформировавшийся в XIV в. на основе народных театрализованных представлений, традиция которых уходит корнями в глубокую древность, и мистериальных действ, разыгрывавшихся при синтоистских и буддийских храмах. Ведущий актер (ситэ) всегда выступает в маске.], однако когда он двигался по сцене, создавалось впечатление, что ноги у него бессильно волочатся, туловище же казалось непомерно вытянутым, и эта несуразность бросалась в глаза неискушенному зрителю. Неподвижная фигура сидевшей с опущенным лицом Кохару выглядела куда более убедительно. При том, что ее наряд был излишне громоздок, а отвернутый подол кимоно неестественно свисал с коленей, об этом почему-то сразу забывалось.
Когда-то, сравнивая кукол японского театра с марионетками труппы Дарка[29 - Труппа английских кукольников, с успехом гастролировавшая в Японии в 1899–1902 гг.], старик заметил, что, поскольку последними управляют сверху, кажется, будто они парят в воздухе, при этом туловище у них остается неподвижным, и, хотя они проделывают всевозможные движения руками и ногами, им не удается передать ощущение гибкости и пластичности, свойственных человеческому телу. Никакая сила воображения не заставит зрителя поверить, что под одеждой у них скрывается живая плоть. Иное дело куклы театра «Бунраку»: рука кукловода входит в их туловище, создавая у зрителя иллюзию подлинной жизни, бьющейся в их теле. Должно быть, фокус заключается в преимуществах, которые дает умелое использование японской одежды. Даже переняв японскую технику, европейский театр вряд ли смог бы добиться подобного эффекта, манипулируя куклами, одетыми в европейское платье. Отсюда следует, что куклы театра «Бунраку» единственны в своем роде, уникальны – нигде в мире не придумано ничего более совершенного.
Что ж, старик был прав, подумал Канамэ. Куклы, активно перемещающиеся по сцене, выглядят ненатурально; оттого, что ноги не могут служить им устойчивой опорой, они как бы перелетают по воздуху, а значит, на них распространяются те же недостатки, что присущи марионеткам. Если развить мысль старика, получалось, что сидящая кукла в куда большей степени передает ощущение живой телесности. Жестикуляция Кохару сведена к минимуму, чуть заметные движения плеч, создающие иллюзию дыхания, кокетливый поворот головы сообщают ей почти зловещее сходство с живой женщиной.
Канамэ заглянул в программку и отыскал имя управлявшего ею кукловода. Как выяснилось, это был знаменитый Бунгоро[30 - Ёсида Бунгоро (1869–1962) – прославленный кукловод театра «Бунраку»; в 1955 г. ему было присвоено звание «живого национального сокровища».]. Его лицо с тонкими, благородными чертами, столь приставшими истинному служителю искусства, озаряла тихая улыбка, он смотрел на куклу в своих руках с такой нежностью, словно это было его любимое чадо, удовольствие же, которое этот старый мастер получал от своей работы, было столь очевидным, что невольно вызывало зависть. Канамэ вдруг подумал, что Кохару напоминает фею из фильма о Питере Пэне[31 - Имеется в виду американский черно-белый немой фильм, вышедший на экраны в 1924 году. Спустя год его премьера состоялась и в Японии.]: она и впрямь была маленькой феей, фантастическим существом в образе человека, отдавшим себя в руки облаченного в церемониальный костюм Бунгоро.
– Не знаю, как певец, но Кохару мне явно нравится, – пробормотал Канамэ себе под нос.
Никто не отозвался на его реплику, хотя О-Хиса наверняка расслышала. Канамэ несколько раз моргнул, пытаясь придать зрению большую ясность. Хмель, теплом разлившийся по его телу, стал мало-помалу улетучиваться, и лицо Кохару приобрело отчетливые очертания. Она по-прежнему неподвижно сидела на сцене, задумчиво склонив голову; ее левая ладонь была спрятана в запа?х кимоно, правая лежала на хибати[32 - Хибати – жаровня: сосуд из дерева, металла или керамики, до половины заполненный тлеющим древесным углем; традиционное средство обогрева в японском доме.]. Глядя на ее застывшую фигуру, Канамэ забыл про кукловода, Кохару уже не казалась ему феей в руках Бунгоро – он видел перед собой сидящую на циновке живую женщину. Вместе с тем это была совсем не та Кохару, какой она предстает в исполнении актера Кабуки. Сколь бы вдохновенно ни играли эту роль Байко или Фукускэ[33 - Оноэ Байко (1870–1934), Накамура Фукускэ (1866–1940) – знаменитые актеры театра Кабуки, специализировавшиеся на амплуа оннагата – исполнении женских ролей.], зритель всегда помнил: «Это Байко» или: «Это Фукускэ». Женщина же, которую видел сейчас на сцене Канамэ, была подлинной Кохару, именно ею, и никем иным. Возможно, ее кукольному личику недоставало выразительности, присущей лицу живого актера, но разве в старину красавица куртизанка проявляла свои чувства – радость, гнев, скорбь или восторг – столь же бурно, как лицедей на театральных подмостках? Скорее всего, реальная Кохару, жившая в годы Гэнроку[34 - Годы Гэнроку – период с 1688 по 1704 г., или, в более широком понимании, последняя четверть XVII – первая четверть XVIII в., время блестящего расцвета японской городской культуры, в том числе и кукольного театра.], как раз и была «женщиной, похожей на куклу». Но даже если и нет, в воображении приходящего в театр зрителя существует не та Кохару, какой ее рисуют Байко или Фукускэ, а та, которую воплощает в себе эта кукла. В старину идеалом красавицы считалась женщина кроткая, сдержанная, не склонная к слишком явным проявлениям своей индивидуальности, и Кохару-кукла как нельзя лучше отвечала этим требованиям. Будь в ней что-либо более определенное и характерное, это только разрушило бы образ. Похоже, для людей минувших времен все трагические героини: и Кохару, и Умэгава, и Санкацу, и О-Сюн[35 - Умэгава – главная героиня драмы Тикамацу Мондзаэмона «Гонец в преисподнюю» (1711), возлюбленная Тюбэя, наследника преуспевающей почтовой конторы. Желая выкупить ее из «веселого квартала», Тюбэй присваивает доверенные ему деньги, но его разоблачают, и после долгих перипетий влюбленные совершают двойное самоубийство в надежде обрести супружеское счастье в будущей жизни. Русский перевод пьесы см. в кн.: Мондзаэмон Тикамацу. Драмы. М.: Изд-во «Искусство», 1963.О танцовщице Санкацу повествуется в пьесе «Танцевальное облачение красавицы гетеры» (1772). Влюбленный в нее торговец Аканэя Хансити по недоразумению убивает своего соперника, обрекая себя на казнь, и герои в отчаянии лишают себя жизни.О-Сюн – главная героиня драмы «Любовная история О-Сюн и Дэмбэя» (иное название: «Соперники, или Недавнее происшествие на речном берегу», 1782). Торговец по имени Идзуцуя Дэмбэй влюблен в гетеру О-Сюн и намерен выкупить ее из «веселого квартала», но на пути их счастья встает злокозненный самурай Кандзаэмон, добивающийся любви О-Сюн. Между соперниками вспыхивает ссора, и в гневе Дэмбэй убивает Кандзаэмона. Вынужденный скрываться от властей, он просит О-Сюн не следовать за ним, но та исполнена решимости разделить с любимым его судьбу.] – были на одно лицо. Как знать, быть может, именно эта кукла воплощает в себе идеал «вечной женственности», каким он исстари мыслится японцам…
Однажды, лет десять назад, Канамэ побывал в театре «Бунраку-дза», который в то время располагался на территории храма Горё. Спектакль нисколько его не тронул, оставив ощущение смертельной скуки. Сегодня он пришел в театр из одного лишь чувства долга, ничего особенного не ожидая, и теперь дивился тому, как, сам того не заметив, увлекся. Видно, за эти годы он постарел. Теперь ему уже не пристало подтрунивать над вкусами тестя. Возможно, пройдет еще десяток лет, и он претерпит в точности такую же метаморфозу – заведет себе содержанку, похожую на О-Хиса, прицепит к поясу кожаный кисет с золотым тиснением и станет ездить в театр, захватив из дома снедь в расписных лакированных ящичках… Впрочем, кто знает, быть может, десяти лет для этого и не потребуется. Он смолоду старался казаться старше своих сверстников, а значит, и состарится раньше…
Канамэ взглянул на профиль О-Хиса, на округлую, чуть тяжеловатую линию ее щеки и подумал, что между этой женщиной с ее бесстрастным, как будто сонным лицом и Кохару существует некое сходство. В душе у него шевельнулись два противоречивых чувства. Первое подсказывало ему, что бояться старости не надо, ибо в ней тоже есть свои очарования. Но вместе с тем Канамэ понимал, что сама по себе мысль о старости уже служит знаком ее приближения, а он не имел права стареть – хотя бы из упрямства, из нежелания давать жене преимущество перед собой. Ведь в конечном счете развод был нужен им обоим для того, чтобы вернуть себе свободу, а с ней – и возможность заново прожить свою молодость…
3
– Спасибо вам за вчерашний звонок, – сказал Канамэ тестю, как только наступил антракт и тот повернулся к нему. – Мне очень нравится спектакль, говорю это от чистого сердца. Да-а, в этом искусстве и впрямь есть что-то завораживающее.
– Не старайтесь сделать мне приятное, я ведь не кукловод, – важно отозвался старик, кутая шею шарфом, сшитым из лоскутов поблекшего от времени синевато-зеленого крепа – остатков какого-то антикварного женского кимоно. – Не думаю, что подобное представление способно по-настоящему вас развлечь, но в кои-то веки можно и поскучать.
– Нет, право же, мне в самом деле интересно. Предыдущий мой опыт был неудачным, но теперь – совсем другое дело. Я и сам этого не ожидал.
– В сегодняшнем спектакле заняты выдающиеся кукловоды, последние из истинных мастеров этого славного цеха. Страшно подумать, что станет с театром, когда они уйдут…
«Кажется, началась проповедь», – подумала Мисако и закусила нижнюю губу, чтобы не усмехнуться. Раскрыв в ладони пудреницу, она несколько раз провела по носу пуховкой.
– Жаль, что зал почти пустой, – заметил Канамэ. – Должно быть, по субботам и воскресеньям зрителей бывает больше.
– Какое там! Сегодня, пожалуй, еще много народу. Этот зал чересчур велик. Прежнее помещение было куда лучше – скромное, уютное…
– Если верить газетам, разрешение на его реконструкцию так и не получено.
– Скорее, компания «Сётику»[36 - Старейшая театральная компания, основанная в 1895 г.; в начале XX в. сосредоточила в своих руках контроль над всеми ведущими театральными труппами страны, в том числе и над осакским театром «Бунраку». Впоследствии стала одним из гигантов японской киноиндустрии.] не дает денег, опасаясь, что при такой посещаемости расходы не окупятся. Вообще же, если говорить серьезно, я считаю, что этим делом должен заняться кто-нибудь из здешних меценатов, ведь речь идет о сохранении осакского искусства.
– Почему бы вам, отец, не проявить инициативу? – вмешалась в разговор Мисако.
– Потому что я не являюсь жителем Осаки, – ответил старик, приняв замечание дочери всерьез. – Это долг местной общественности.
– Но ведь вы рьяный поклонник осакского искусства. Можно даже сказать, его пленник.
– В таком случае ты – пленница европейской музыки, не так ли?
– Совсем не обязательно. Но пение гидаю мне не нравится. Слишком уж громко.
– И это ты называешь громким?! Что же тогда говорить о джазе? Недавно я слышал выступление одного оркестра – сплошная какофония: тэкэрэттэ-тэттон-дон! Такую музыку не требуется импортировать с Запада, она с давних пор существует и в Японии – достаточно побывать на празднике в любом синтоистском храме!
– Очевидно, это был какой-нибудь третьеразрядный оркестрик из тех, что играют в кинотеатрах.
– Ты хочешь сказать, что существует перворазрядный джаз?
– Конечно. Не стоит так пренебрежительно относиться к этой музыке.
– Нет, я отказываюсь понимать нынешнюю молодежь. Взять хотя бы женщин – они совершенно незнакомы с правилами хорошего тона. Что это у тебя в руке?
– Это? Компактная пудра.
– Я не возражаю против модных новинок, но как можно пудриться на виду у всех? Женщина сразу же утрачивает всю свою привлекательность. Однажды я увидел такую же штуковину у О-Хиса и как следует ее отчитал.
– Напрасно. Это удобная вещь, – возразила Мисако и, повернув зеркальце к свету, принялась неторопливо и тщательно подкрашивать губы помадой «кисспруф».
– До чего же неприглядное зрелище! В мое время ни одной приличной барышне или даме не пришло бы в голову заниматься этим на публике.
– Ничего не попишешь, теперь все так делают. У меня есть приятельница, знаменитая тем, что каждый раз, когда мы собираемся на наши женские посиделки, перво-наперво достает из сумочки компактную пудру и не притрагивается к еде до тех пор, пока не поправит всю косметику. Из-за нее обед может длиться часами. Но это, конечно, крайность.
– Боюсь, вам неудобно. Вы можете вытянуть ноги… – участливо проговорила О-Хиса, обращаясь к Мисако.
Она без устали хлопотала в тесной ложе, разливая чай, предлагая сладости, пытаясь – без особого, впрочем, успеха – заговаривать с Мисако, а в промежутках следила за тем, чтобы вовремя наполнить чарку, которую старик, отведя назад правую руку, ставил на краешек подноса для курительных принадлежностей. Недавно он провозгласил, что «сакэ следует пить только из лаковой посуды», и потому сегодня ему была подана одна из трех захваченных из дома чарок красного лака с золотой росписью, воспроизводящей в миниатюре пейзажи знаменитой серии «Пятьдесят три станции Токайдоского тракта»[23 - Серия гравюр на дереве (укиё-э), созданная знаменитым художником Андо Хиросигэ (1797–1858).]. Все – и сакэ, и закуски, и столовая утварь – было привезено из Киото в специальном переносном сундучке, с какими в старину придворные дамы отправлялись на любование сакурой. Подобная предусмотрительность отнюдь не служила к пользе существовавшего при театре чайного заведения, не говоря уж о том, скольких забот она требовала от О-Хиса.
– Не хотите ли сакэ? – спросила О-Хиса, протягивая Канамэ извлеченную из сундучка чарку.
– Спасибо, не откажусь. Вообще-то днем я не пью, но без пальто здесь холодновато…
Наливая Канамэ сакэ, О-Хиса коснулась его щеки уложенной валиком боковой прядью, и он почувствовал исходящий от ее волос едва уловимый запах гвоздичного масла. Канамэ заглянул в наполненную до краев чарку, на дне которой поблескивал золотой силуэт горы Фудзи с раскинувшимся у ее подножия селением; все было выписано тщательной кистью в духе Хиросигэ, а сбоку виднелась надпись: «Нумадзу»[24 - Нумадзу – одна из почтовых станций Токайдоского тракта, селение (теперь – город) в восточной части нынешней префектуры Сидзуока.].
– Из такой изысканной вещицы даже как-то неловко пить, – проговорил Канамэ.
– Правда? – улыбнулась О-Хиса, обнажив потемневшие зубы – этот непременный атрибут типичной киотоской женщины. Верхние резцы у нее приобрели оттенок кожицы баклажана и выглядели так, словно она покрыла их черным лаком на манер старинной красавицы, а правый клык выдавался вперед, задевая о верхнюю губу. Возможно, кто-то и нашел бы это зрелище трогательным в своей безыскусности, но, говоря по справедливости, рот О-Хиса никак нельзя было назвать красивым. «Не женщина, а какая-то нечистоплотная дикарка!» – отзывалась о ней Мисако. Пожалуй, О-Хиса все же не заслуживала столь сурового приговора, – скорее, ее следовало пожалеть за то, что она до сих пор не догадалась заняться своими зубами и привести их в порядок.
– Неужели вы привезли все эти яства с собой? – спросил Канамэ, принимая из рук О-Хиса тарелочку, на которой лежали норимаки[25 - Норимаки – завернутый в тонкий листок сушеных водорослей (нори) рис с начинкой; разновидность суси.] с омлетом.
– Да.
– Представляю себе, какая это тяжесть. Теперь вам придется везти всю утварь назад?
– Конечно. Пожилой господин считает, что угощение из чайной никуда не годится…
Мисако обернулась и, метнув короткий взгляд в их сторону, снова обратила лицо к сцене. Время от времени, пытаясь устроиться поудобнее, она ненароком касалась ступнями коленей сидевшего позади нее мужа и всякий раз резким движением отдергивала ноги. Канамэ горько усмехнулся: до чего же трудно им в этой тесноте не выдавать недовольства друг другом!
– Ну как? Тебе нравится спектакль? – вкрадчиво спросил он жену в надежде смягчить возникшее между ними напряжение.
– Вероятно, вы привыкли к более увлекательным зрелищам, – заметила О-Хиса, – но иной раз поглядеть старинную кукольную пьесу тоже приятно.
– Я смотрю в основном на мимику гидаю[26 - Гидаю – наименование певца-рассказчика в японском кукольном театре; восходит к имени Такэмото Гидаю (1651–1714), прославленного мастера песенного сказа.]. Это занятнее, чем глядеть на кукол, – отозвалась Мисако.
Старик демонстративно кашлянул, давая понять, что они мешают ему своим шушуканьем. Не сводя глаз со сцены, он шарил возле себя рукой в поисках курительных принадлежностей. Кожаный кисет с золотым тиснением и изображением обезьянки вскоре нашелся – старик обнаружил его у себя под коленом, трубка же куда-то запропастилась. В конце концов О-Хиса извлекла ее из-под подушки для сидения и, раскурив, вложила старику в протянутую ладонь. Потом, словно спохватившись, вынула из-за пояса дамский кисет из алой тафты и, откинув клапан, запустила в него свои маленькие белые пальчики.
«И впрямь, кукольную драму нужно смотреть именно так: когда рядом с тобой любовница, а в руке чарка», – подумал Канамэ, разомлев от выпитого сакэ. Теперь, когда в ложе воцарилось молчание, он от нечего делать устремил взор на сцену. Первое действие драмы «Остров Небесных Сетей»[27 - «Остров Небесных Сетей» (полное название: «Самоубийство влюбленных на Острове Небесных Сетей») – одно из самых известных произведений великого японского драматурга Тикамацу Мондзаэмона (1653–1724). Пьеса основана на реальных событиях, произошедших в Осаке в 1703 г., и повествует о двойном самоубийстве влюбленных – торговца бумагой Дзихэя и девушки Кохару из «веселого квартала». Русский перевод см. в кн.: Тикамацу Мондзаэмон. Драматические поэмы. М.: Изд-во «Художественная литература», 1968.] было в самом разгаре. Чарка, которую поднесла ему О-Хиса, оказалась большего размера, чем обычно, и он слегка захмелел. У него рябило в глазах, сцена уплывала куда-то вдаль, и приходилось делать усилие, чтобы разглядеть лица кукол и узоры на их одеждах. Напрягая зрение, Канамэ сфокусировал взгляд на главной героине – куртизанке Кохару, которая сидела с левой стороны сцены. Лицо Дзихэя, ее возлюбленного, тоже было не лишено своеобразного очарования и чем-то напоминало маску театра Но[28 - Но (букв.: «умение», «мастерство») – средневековый японский театр, сформировавшийся в XIV в. на основе народных театрализованных представлений, традиция которых уходит корнями в глубокую древность, и мистериальных действ, разыгрывавшихся при синтоистских и буддийских храмах. Ведущий актер (ситэ) всегда выступает в маске.], однако когда он двигался по сцене, создавалось впечатление, что ноги у него бессильно волочатся, туловище же казалось непомерно вытянутым, и эта несуразность бросалась в глаза неискушенному зрителю. Неподвижная фигура сидевшей с опущенным лицом Кохару выглядела куда более убедительно. При том, что ее наряд был излишне громоздок, а отвернутый подол кимоно неестественно свисал с коленей, об этом почему-то сразу забывалось.
Когда-то, сравнивая кукол японского театра с марионетками труппы Дарка[29 - Труппа английских кукольников, с успехом гастролировавшая в Японии в 1899–1902 гг.], старик заметил, что, поскольку последними управляют сверху, кажется, будто они парят в воздухе, при этом туловище у них остается неподвижным, и, хотя они проделывают всевозможные движения руками и ногами, им не удается передать ощущение гибкости и пластичности, свойственных человеческому телу. Никакая сила воображения не заставит зрителя поверить, что под одеждой у них скрывается живая плоть. Иное дело куклы театра «Бунраку»: рука кукловода входит в их туловище, создавая у зрителя иллюзию подлинной жизни, бьющейся в их теле. Должно быть, фокус заключается в преимуществах, которые дает умелое использование японской одежды. Даже переняв японскую технику, европейский театр вряд ли смог бы добиться подобного эффекта, манипулируя куклами, одетыми в европейское платье. Отсюда следует, что куклы театра «Бунраку» единственны в своем роде, уникальны – нигде в мире не придумано ничего более совершенного.
Что ж, старик был прав, подумал Канамэ. Куклы, активно перемещающиеся по сцене, выглядят ненатурально; оттого, что ноги не могут служить им устойчивой опорой, они как бы перелетают по воздуху, а значит, на них распространяются те же недостатки, что присущи марионеткам. Если развить мысль старика, получалось, что сидящая кукла в куда большей степени передает ощущение живой телесности. Жестикуляция Кохару сведена к минимуму, чуть заметные движения плеч, создающие иллюзию дыхания, кокетливый поворот головы сообщают ей почти зловещее сходство с живой женщиной.
Канамэ заглянул в программку и отыскал имя управлявшего ею кукловода. Как выяснилось, это был знаменитый Бунгоро[30 - Ёсида Бунгоро (1869–1962) – прославленный кукловод театра «Бунраку»; в 1955 г. ему было присвоено звание «живого национального сокровища».]. Его лицо с тонкими, благородными чертами, столь приставшими истинному служителю искусства, озаряла тихая улыбка, он смотрел на куклу в своих руках с такой нежностью, словно это было его любимое чадо, удовольствие же, которое этот старый мастер получал от своей работы, было столь очевидным, что невольно вызывало зависть. Канамэ вдруг подумал, что Кохару напоминает фею из фильма о Питере Пэне[31 - Имеется в виду американский черно-белый немой фильм, вышедший на экраны в 1924 году. Спустя год его премьера состоялась и в Японии.]: она и впрямь была маленькой феей, фантастическим существом в образе человека, отдавшим себя в руки облаченного в церемониальный костюм Бунгоро.
– Не знаю, как певец, но Кохару мне явно нравится, – пробормотал Канамэ себе под нос.
Никто не отозвался на его реплику, хотя О-Хиса наверняка расслышала. Канамэ несколько раз моргнул, пытаясь придать зрению большую ясность. Хмель, теплом разлившийся по его телу, стал мало-помалу улетучиваться, и лицо Кохару приобрело отчетливые очертания. Она по-прежнему неподвижно сидела на сцене, задумчиво склонив голову; ее левая ладонь была спрятана в запа?х кимоно, правая лежала на хибати[32 - Хибати – жаровня: сосуд из дерева, металла или керамики, до половины заполненный тлеющим древесным углем; традиционное средство обогрева в японском доме.]. Глядя на ее застывшую фигуру, Канамэ забыл про кукловода, Кохару уже не казалась ему феей в руках Бунгоро – он видел перед собой сидящую на циновке живую женщину. Вместе с тем это была совсем не та Кохару, какой она предстает в исполнении актера Кабуки. Сколь бы вдохновенно ни играли эту роль Байко или Фукускэ[33 - Оноэ Байко (1870–1934), Накамура Фукускэ (1866–1940) – знаменитые актеры театра Кабуки, специализировавшиеся на амплуа оннагата – исполнении женских ролей.], зритель всегда помнил: «Это Байко» или: «Это Фукускэ». Женщина же, которую видел сейчас на сцене Канамэ, была подлинной Кохару, именно ею, и никем иным. Возможно, ее кукольному личику недоставало выразительности, присущей лицу живого актера, но разве в старину красавица куртизанка проявляла свои чувства – радость, гнев, скорбь или восторг – столь же бурно, как лицедей на театральных подмостках? Скорее всего, реальная Кохару, жившая в годы Гэнроку[34 - Годы Гэнроку – период с 1688 по 1704 г., или, в более широком понимании, последняя четверть XVII – первая четверть XVIII в., время блестящего расцвета японской городской культуры, в том числе и кукольного театра.], как раз и была «женщиной, похожей на куклу». Но даже если и нет, в воображении приходящего в театр зрителя существует не та Кохару, какой ее рисуют Байко или Фукускэ, а та, которую воплощает в себе эта кукла. В старину идеалом красавицы считалась женщина кроткая, сдержанная, не склонная к слишком явным проявлениям своей индивидуальности, и Кохару-кукла как нельзя лучше отвечала этим требованиям. Будь в ней что-либо более определенное и характерное, это только разрушило бы образ. Похоже, для людей минувших времен все трагические героини: и Кохару, и Умэгава, и Санкацу, и О-Сюн[35 - Умэгава – главная героиня драмы Тикамацу Мондзаэмона «Гонец в преисподнюю» (1711), возлюбленная Тюбэя, наследника преуспевающей почтовой конторы. Желая выкупить ее из «веселого квартала», Тюбэй присваивает доверенные ему деньги, но его разоблачают, и после долгих перипетий влюбленные совершают двойное самоубийство в надежде обрести супружеское счастье в будущей жизни. Русский перевод пьесы см. в кн.: Мондзаэмон Тикамацу. Драмы. М.: Изд-во «Искусство», 1963.О танцовщице Санкацу повествуется в пьесе «Танцевальное облачение красавицы гетеры» (1772). Влюбленный в нее торговец Аканэя Хансити по недоразумению убивает своего соперника, обрекая себя на казнь, и герои в отчаянии лишают себя жизни.О-Сюн – главная героиня драмы «Любовная история О-Сюн и Дэмбэя» (иное название: «Соперники, или Недавнее происшествие на речном берегу», 1782). Торговец по имени Идзуцуя Дэмбэй влюблен в гетеру О-Сюн и намерен выкупить ее из «веселого квартала», но на пути их счастья встает злокозненный самурай Кандзаэмон, добивающийся любви О-Сюн. Между соперниками вспыхивает ссора, и в гневе Дэмбэй убивает Кандзаэмона. Вынужденный скрываться от властей, он просит О-Сюн не следовать за ним, но та исполнена решимости разделить с любимым его судьбу.] – были на одно лицо. Как знать, быть может, именно эта кукла воплощает в себе идеал «вечной женственности», каким он исстари мыслится японцам…
Однажды, лет десять назад, Канамэ побывал в театре «Бунраку-дза», который в то время располагался на территории храма Горё. Спектакль нисколько его не тронул, оставив ощущение смертельной скуки. Сегодня он пришел в театр из одного лишь чувства долга, ничего особенного не ожидая, и теперь дивился тому, как, сам того не заметив, увлекся. Видно, за эти годы он постарел. Теперь ему уже не пристало подтрунивать над вкусами тестя. Возможно, пройдет еще десяток лет, и он претерпит в точности такую же метаморфозу – заведет себе содержанку, похожую на О-Хиса, прицепит к поясу кожаный кисет с золотым тиснением и станет ездить в театр, захватив из дома снедь в расписных лакированных ящичках… Впрочем, кто знает, быть может, десяти лет для этого и не потребуется. Он смолоду старался казаться старше своих сверстников, а значит, и состарится раньше…
Канамэ взглянул на профиль О-Хиса, на округлую, чуть тяжеловатую линию ее щеки и подумал, что между этой женщиной с ее бесстрастным, как будто сонным лицом и Кохару существует некое сходство. В душе у него шевельнулись два противоречивых чувства. Первое подсказывало ему, что бояться старости не надо, ибо в ней тоже есть свои очарования. Но вместе с тем Канамэ понимал, что сама по себе мысль о старости уже служит знаком ее приближения, а он не имел права стареть – хотя бы из упрямства, из нежелания давать жене преимущество перед собой. Ведь в конечном счете развод был нужен им обоим для того, чтобы вернуть себе свободу, а с ней – и возможность заново прожить свою молодость…
3
– Спасибо вам за вчерашний звонок, – сказал Канамэ тестю, как только наступил антракт и тот повернулся к нему. – Мне очень нравится спектакль, говорю это от чистого сердца. Да-а, в этом искусстве и впрямь есть что-то завораживающее.
– Не старайтесь сделать мне приятное, я ведь не кукловод, – важно отозвался старик, кутая шею шарфом, сшитым из лоскутов поблекшего от времени синевато-зеленого крепа – остатков какого-то антикварного женского кимоно. – Не думаю, что подобное представление способно по-настоящему вас развлечь, но в кои-то веки можно и поскучать.
– Нет, право же, мне в самом деле интересно. Предыдущий мой опыт был неудачным, но теперь – совсем другое дело. Я и сам этого не ожидал.
– В сегодняшнем спектакле заняты выдающиеся кукловоды, последние из истинных мастеров этого славного цеха. Страшно подумать, что станет с театром, когда они уйдут…
«Кажется, началась проповедь», – подумала Мисако и закусила нижнюю губу, чтобы не усмехнуться. Раскрыв в ладони пудреницу, она несколько раз провела по носу пуховкой.
– Жаль, что зал почти пустой, – заметил Канамэ. – Должно быть, по субботам и воскресеньям зрителей бывает больше.
– Какое там! Сегодня, пожалуй, еще много народу. Этот зал чересчур велик. Прежнее помещение было куда лучше – скромное, уютное…
– Если верить газетам, разрешение на его реконструкцию так и не получено.
– Скорее, компания «Сётику»[36 - Старейшая театральная компания, основанная в 1895 г.; в начале XX в. сосредоточила в своих руках контроль над всеми ведущими театральными труппами страны, в том числе и над осакским театром «Бунраку». Впоследствии стала одним из гигантов японской киноиндустрии.] не дает денег, опасаясь, что при такой посещаемости расходы не окупятся. Вообще же, если говорить серьезно, я считаю, что этим делом должен заняться кто-нибудь из здешних меценатов, ведь речь идет о сохранении осакского искусства.
– Почему бы вам, отец, не проявить инициативу? – вмешалась в разговор Мисако.
– Потому что я не являюсь жителем Осаки, – ответил старик, приняв замечание дочери всерьез. – Это долг местной общественности.
– Но ведь вы рьяный поклонник осакского искусства. Можно даже сказать, его пленник.
– В таком случае ты – пленница европейской музыки, не так ли?
– Совсем не обязательно. Но пение гидаю мне не нравится. Слишком уж громко.
– И это ты называешь громким?! Что же тогда говорить о джазе? Недавно я слышал выступление одного оркестра – сплошная какофония: тэкэрэттэ-тэттон-дон! Такую музыку не требуется импортировать с Запада, она с давних пор существует и в Японии – достаточно побывать на празднике в любом синтоистском храме!
– Очевидно, это был какой-нибудь третьеразрядный оркестрик из тех, что играют в кинотеатрах.
– Ты хочешь сказать, что существует перворазрядный джаз?
– Конечно. Не стоит так пренебрежительно относиться к этой музыке.
– Нет, я отказываюсь понимать нынешнюю молодежь. Взять хотя бы женщин – они совершенно незнакомы с правилами хорошего тона. Что это у тебя в руке?
– Это? Компактная пудра.
– Я не возражаю против модных новинок, но как можно пудриться на виду у всех? Женщина сразу же утрачивает всю свою привлекательность. Однажды я увидел такую же штуковину у О-Хиса и как следует ее отчитал.
– Напрасно. Это удобная вещь, – возразила Мисако и, повернув зеркальце к свету, принялась неторопливо и тщательно подкрашивать губы помадой «кисспруф».
– До чего же неприглядное зрелище! В мое время ни одной приличной барышне или даме не пришло бы в голову заниматься этим на публике.
– Ничего не попишешь, теперь все так делают. У меня есть приятельница, знаменитая тем, что каждый раз, когда мы собираемся на наши женские посиделки, перво-наперво достает из сумочки компактную пудру и не притрагивается к еде до тех пор, пока не поправит всю косметику. Из-за нее обед может длиться часами. Но это, конечно, крайность.