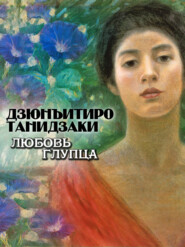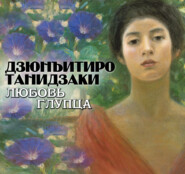По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кому-то и полынь сладка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кому-то и полынь сладка
Дзюнъитиро Танидзаки
Эксклюзивная классика (АСТ)
Роман «Кому-то и полынь сладка» (1929) принадлежит к лучшим образцам прозы Танидзаки. Это история о несчастливом браке: муж и жена давно уже тяготятся своими узами, но вместо того чтобы расстаться и обрести желанную свободу, продолжают мучить себя и друг друга…
Однако главный интерес романа заключается не в сюжетной коллизии как таковой, а в самой его атмосфере. Лирическое начало просвечивает сквозь всю ткань повествования, связывая воедино объективность описаний и субъективность авторских оценок, память прошлого и переживание настоящего, природу и искусство, жизненное и житейское. Мир романа неиерархичен, в нем все одинаково ценно, и каждая конкретная деталь наделена тем особым свойством, которое по-японски называется "моно-но аварэ" – печальным очарованием вещей.
Дзюнъитиро Танидзаки
Кому-то и полынь сладка
© Перевод, предисловие. Т. Редько-Добровольская, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
* * *
Дзюнъитиро Танидзаки (1886–1965) – один из самых известных и значительных японских прозаиков XX века. Еще при жизни ставший классиком, он получил широкое признание не только у себя на родине, но и далеко за его пределами. Многие его произведения переведены на русский язык и не перестают привлекать читателей своей необычностью, жанровым и стилевым разнообразием, изяществом словесного рисунка. В его честь названа одна из наиболее престижных литературных премий Японии.
* * *
От переводчика
У всякого свой вкус – кому-то и полынь сладка.
Японская пословица
Что кажется мне прекрасным, что я хотел бы написать, – это книгу ни о чем, книгу без внешней привязи, которая держалась бы сама по себе, внутренней силой стиля, как земля держится в воздухе без всякой опоры…[1 - Перевод Е. М. Лысенко.]
Гюстав Флобер
Из письма Луизе Коле, 1852 г.
Я желал бы снова вызвать к жизни постепенно утрачиваемый нами «мир тени», хотя бы в области литературы. Мне хотелось бы глубже надвинуть карнизы над дворцом литературы, затемнить его стены, отвести в тень то, что слишком выставлено напоказ, снять ненужные украшения в его залах.[2 - Перевод М. П. Григорьева.]
Дзюнъитиро Танидзаки
«Похвала тени»
Дзюнъитиро Танидзаки (1886–1965) – один из самых интересных и значительных японских прозаиков XX века. Еще при жизни ставший классиком, он по сей день приковывает к себе внимание исследователей и переводчиков, а его манера письма по-прежнему поражает читателей не только своей яркой самобытностью, но и неожиданной современностью.
Танидзаки из той породы писателей, которых принято называть «артистами», «виртуозами стиля». Эстетическое мироощущение составляло основу его философии жизни и искусства. С первых шагов на литературном поприще и до конца дней он оставался верен своему кредо: искусство – не подражание, не имитация жизни, а «создание нового, еще небывалого»[3 - См.: Дзюнъитиро Танидзаки. Мать Сигэмото. Повести, рассказы, эссе. М.: Изд-во «Наука», 1984. С. 210.]. Он верил в силу творческой фантазии, позволяющей глазу художника проникнуть за внешнюю оболочку вещей и увидеть в преходящем, конечном след вечности и тайны.
Укорененность в японской культуре сочеталась у Танидзаки с пылким увлечением литературой Запада, которую он усваивал по принципу «избирательного сродства», через книги близких ему по духу писателей – среди них в разные годы оказывались Эдгар По, Оскар Уайльд, Шарль Бодлер, Жорис-Карл Гюисманс, Стендаль, Гюстав Флобер, Джордж Мур, Реймон Радиге, Томас Гарди… Но сколь бы велико ни было влияние на него тех или иных чужеземных авторов (оно легко прослеживается в первых, ученических опытах Танидзаки), от прямого подражательства его уберегали неподдельная самостоятельность дарования и удивительная чуткость к стихии родного языка. Не случайно за пределами своей страны он приобрел стойкую репутацию мастера «истинно японской чеканки».
Имя Танидзаки хорошо знакомо российскому читателю. Многие из самых известных его сочинений: повестей, рассказов, романов, эссе – переведены на русский язык и неоднократно переиздавались. Однако существуют произведения, без которых творчество писателя не может быть воспринято во всей своей полноте и цельности. К числу таких произведений принадлежит роман «Кому-то и полынь сладка» («Тадэ куу муси», 1929).
Танидзаки приступил к его созданию уже будучи знаменитым, сложившимся беллетристом. Ревностный приверженец неоромантического эстетизма «конца века», он славился пристрастием ко всему таинственному, болезненно-странному, демоническому. Тщательно продуманная композиция, затейливый, динамично развивающийся сюжет, изысканный, на грани прециозности язык[4 - Рюноскэ Акутагава, один из самых проницательных и нелицеприятных критиков Танидзаки, восхищался его умением «выискивать и шлифовать различные японские и китайские слова, превращать их в блестки чувственной красоты (или уродства) и словно перламутром инкрустировать ими свои произведения» (перевод Б. В. Раскина).] – вот характерные приметы стиля раннего Танидзаки. И вдруг из-под его пера выходит книга, совсем непохожая на предыдущие, – книга, говоря по-флоберовски, почти «бесплотная», где «форма уходит от всякого чинопорядка» и «стиль сам по себе есть совершенный способ видеть мир»[5 - Гюстав Флобер. О литературе, искусстве, писательском труде. Письма. Статьи. М.: Изд-во «Художественная литература», 1984. Т. 1. С. 162.].
На первый взгляд в «Полыни» нет ничего необычного, заведомо оригинального. В центре повествования – супружеская пара, переживающая семейный разлад. Муж и жена давно уже охладели друг к другу и всерьез подумывают о разводе, однако существует нечто, мешающее им разорвать опостылевшие узы. Вместо того чтобы расстаться и обрести желанную свободу, они продолжают мучить себя и друг друга. Поистине – «кому-то и полынь сладка»…
Такова внешняя, сюжетная канва романа, но в нем есть и другой, глубинный план, связанный с осмыслением неизбежного в эпоху стремительной модернизации конфликта между культурными и моральными ценностями Востока и Запада. Поиск новых жизненных опор и новой культурной идентичности становится одной из важных тем и движущих сил повествования.
И все же главный интерес романа состоит не в событиях, не в психологии персонажей и не в сюжетной интриге как таковой, а в самой его атмосфере, в смене ритмов и ракурсов, в «комбинации вещей, плетущей узор светотени»[6 - Дзюнъитиро Танидзаки. Избранные произведения. М.: Изд-во «Художественная литература», 1986. Т. 1. С. 510.]. Показательно, что действие так и не приходит к развязке: в решающий момент автор отступает в сторону и передает свои полномочия читателю, который должен завершить рассказанную ему историю. Открытый финал размывает границу между «иллюзией» (литературой) и «действительностью» – повествование словно бы выплескивается из своих берегов и перетекает в беспредельность жизни. «Развязка заключена не в конце, а в освобождении от конца»[7 - О. А. Седакова. О русской словесности. М.: Изд-во «Время», 2023. С. 142.], – не эту ли мысль пытается внушить нам Танидзаки?..
При всей своей естественности и прозрачности, язык романа далеко не прост, и дело не в наличии в нем каких-либо тайных, зашифрованных знаков; его секрет – в тонкой нюансировке, в незаметном переключении регистров, в модуляциях авторского голоса. То, что на поверхности выглядит как объективное описание характеров и обстоятельств, сплошь и рядом оказывается лирическим самовыражением автора, незримо присутствующего в тексте.
В сложной, несмотря на внешнюю бесхитростность, фактуре письма Танидзаки ощущается рука художника эпохи модерна. Это утверждение может прозвучать странно: в Танидзаки привыкли видеть скорее традиционалиста, чем новатора, да и сам он избегал преднамеренной новизны. Его «модерность» проявляется не в изобретении радикально новых форм, а в оживлении забытого и, казалось бы, навсегда отринутого старого, в стремлении вернуть языку литературы утерянную пластичность и многозначность. Он учился у японских мастеров прошлого искусству недосказанности, умению строить повествование с таким расчетом, чтобы отдельные его части, сопрягаясь между собой, порождали все новые мерцания смысла, а владеющие автором чувства вызывали ответный отклик в душе читателя.
Критики Танидзаки не раз упрекали его в интеллектуальном дилетантизме, чрезмерной субъективности, равнодушии к насущным проблемам времени. Спору нет, прозу Танидзаки не назовешь ни «умственной», ни «объективной», ни «актуальной». Ее сила в другом – в особом устройстве авторского зрения, в том внимательном, укрупняющем взгляде, который умеет отвлекаться на подробности, замечать случайное и оставлять нетронутым скрывающийся в глубине вещей запас таинственной темноты.
Т. Редько-Добровольская
Кому-то и полынь сладка
1
«Так что вы решили – ехать или нет?» Этот вопрос Мисако задавала мужу не раз в течение утра, но тот, как всегда, отвечал уклончиво, не давая и ей возможности распорядиться собой. Так в тягучей неопределенности прошла половина дня. Около часу пополудни Мисако искупалась и на всякий случай привела себя в порядок, после чего с вопросительным видом села возле мужа. Однако и на сей раз никакой внятной реакции от него не последовало.
– Может быть, примете ванну?
– Пожалуй…
Канамэ лежал на татами[8 - Татами – плотные соломенные маты высотой около 5 см и площадью несколько больше 1,5 кв. м; служат для настилки полов в традиционных японских помещениях. – Здесь и далее примеч. переводчика.], подсунув под живот две подушки для сидения, и, подпирая ладонью щеку, читал газету. Уловив исходящий от жены запах косметики, он отвел голову вбок, будто отпрянул, и, стараясь не встречаться с ней глазами, взглянул на нее, вернее, на ее наряд – в надежде, что выбранное ею кимоно подскажет ему искомое решение. Загвоздка, однако, состояла в том, что с некоторых пор Канамэ не очень-то присматривался к нарядам жены. Как всякая заправская щеголиха, она, должно быть, регулярно покупала себе какие-то обновы, но при этом не спрашивала у него советов и не ставила его в известность о своих приобретениях, а потому по нынешнему ее виду было трудно заключить что-либо сверх того, что перед ним изящная современная дама, одетая для выхода.
– А сама ты как расположена?
– Мне все равно… Если вы решите ехать, я поеду с вами… Если нет, прокачусь в Сума[9 - Сума – район Кобэ, расположенный на живописном морском побережье.].
– Ты обещала быть в Сума?
– Да нет… Я могу поехать туда и завтра.
Мисако положила на колени маникюрный прибор и принялась полировать ногти, устремив взгляд в какую-то неопределенную точку над головой мужа.
Подобная нерешительность охватывала супругов не впервые. Всякий раз, когда им предстояло отправиться куда-то вместе, оба занимали выжидательную позицию, стараясь угадать настроение друг друга и не желая проявлять инициативу. Можно было подумать, что они держат в руках наполненный водой плоский сосуд для цветов, следя за тем, с какого края она выплеснется. Иной раз за весь день им так и не удавалось прийти к обоюдному решению, но порой в последний момент внезапно обнаруживалось, что их желания совпадают. Сегодня у Канамэ было предчувствие, что в итоге они все же поедут вместе. Тем не менее он держался по обыкновению пассивно, рассчитывая, что все за него решит какая-нибудь случайность, и это не было пустым капризом с его стороны. Он знал, каким тягостным чувством сопровождается каждое их совместное путешествие, пусть в данном случае речь шла всего лишь о поездке в Дотомбори[10 - Дотомбори – торгово-увеселительный квартал в южной части Осаки.], до которого от силы час пути. Кроме того, он ощущал себя слегка виноватым перед женой: хотя Мисако и сказала, что может поехать в Сума и завтра, Канамэ догадывался, что она условилась о встрече с Асо, а если и нет, то в любом случае ей было бы куда приятнее провести время с ним, нежели томиться от скуки на представлении кукольного театра.
Накануне из Киото позвонил его тесть и, сообщив о своем намерении посетить театр «Бэнтэн-дза», предложил им с Мисако составить ему компанию. Разумеется, Канамэ следовало прежде посоветоваться с женой, но ее дома не оказалось, и он опрометчиво пообещал «быть непременно». Дело в том, что когда-то, желая потрафить старику, он из простой любезности посетовал, что давно уже не бывал в кукольном театре, и попросил в следующий раз взять его с собой. Как видно, тот принял слова зятя за чистую монету. Отказываться в такой ситуации было неловко, к тому же другого случая не то что посмотреть вместе кукольный спектакль, но просто повидать тестя и спокойно, без спешки с ним побеседовать могло уже и не представиться.
В свои без малого шестьдесят лет отец Мисако жил на покое в Сисигатани[11 - Один из районов Киото, славящийся живописным природным окружением, а также старинными храмами и историческими памятниками.], культивируя привычки человека утонченного вкуса. При том, что Канамэ не разделял его интересов и впадал в молчаливое раздражение всякий раз, когда старик принимался к месту и не к месту щеголять собственной эрудицией, он уважал тестя за прямоту и свободу от условностей – качества, которыми тот, судя по всему, был обязан своей бурно проведенной молодости. Канамэ с сожалением думал о том, что вскоре связующие их родственные узы оборвутся, и это, как ни странно, печалило его даже больше, чем грядущий разрыв с женой. Не претендуя на роль образцового зятя, он, тем не менее, считал себя обязанным, пока они с Мисако официально остаются супругами, хотя бы разок продемонстрировать старику свою привязанность.
И все же он не должен был принимать приглашение тестя, не посоветовавшись с женой, – он всегда считался с ее желаниями. Так было бы и вчера, но под вечер Мисако ушла, сославшись на необходимость «сделать кое-какие покупки в Кобэ», Канамэ же подозревал, что на самом деле она отправилась на свидание с Асо. Разговаривая с тестем, он живо представил себе, как она прогуливается под руку со своим любовником по морскому берегу в Сума. «Раз они встречаются сегодня, – рассудил он, – завтра она будет свободна». Впрочем, возможно, Канамэ был неправ, усомнившись в искренности жены: до сих пор Мисако ничего от него не скрывала, и если она сказала, что едет за покупками, скорее всего, так оно и было. Она не имела обыкновения лгать, да в этом и не было никакой нужды. Тем не менее существуют соображения такта, не позволяющие лишний раз напоминать мужу о вещах, заведомо для него неприятных, и то, что Канамэ принял ее слова о «поездке в Кобэ» за отговорку, не свидетельствовало о какой-то особой мнительности с его стороны – в его положении это было естественно. Да и сама Мисако наверняка понимала, что, давая согласие на поход в театр, он отнюдь не руководствовался ревностью или стремлением как-нибудь ей досадить. Но, с другой стороны, даже если они с Асо виделись накануне, из этого вовсе не следовало, что сегодня она не захочет встретиться с ним снова: поначалу их свидания происходили не так уж часто – раз в неделю, а то и в десять дней, – теперь же они могли видеться и по два, и по три дня кряду…
Когда спустя минут десять Канамэ вышел из ванной комнаты в наброшенном на плечи купальном халате, он застал жену за прежним занятием: уставившись в пустоту, она механически полировала ногти.
– Вам в самом деле хочется в театр? – спросила Мисако, поднеся к глазам отшлифованный до глянцевого блеска острый ноготок большого пальца и не поворачивая головы в сторону мужа, который с зеркальцем в руке причесывался на веранде.
– Да нет, не особенно. Просто однажды я имел неосторожность обмолвиться, что был бы не прочь побывать на кукольном спектакле.
Дзюнъитиро Танидзаки
Эксклюзивная классика (АСТ)
Роман «Кому-то и полынь сладка» (1929) принадлежит к лучшим образцам прозы Танидзаки. Это история о несчастливом браке: муж и жена давно уже тяготятся своими узами, но вместо того чтобы расстаться и обрести желанную свободу, продолжают мучить себя и друг друга…
Однако главный интерес романа заключается не в сюжетной коллизии как таковой, а в самой его атмосфере. Лирическое начало просвечивает сквозь всю ткань повествования, связывая воедино объективность описаний и субъективность авторских оценок, память прошлого и переживание настоящего, природу и искусство, жизненное и житейское. Мир романа неиерархичен, в нем все одинаково ценно, и каждая конкретная деталь наделена тем особым свойством, которое по-японски называется "моно-но аварэ" – печальным очарованием вещей.
Дзюнъитиро Танидзаки
Кому-то и полынь сладка
© Перевод, предисловие. Т. Редько-Добровольская, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
* * *
Дзюнъитиро Танидзаки (1886–1965) – один из самых известных и значительных японских прозаиков XX века. Еще при жизни ставший классиком, он получил широкое признание не только у себя на родине, но и далеко за его пределами. Многие его произведения переведены на русский язык и не перестают привлекать читателей своей необычностью, жанровым и стилевым разнообразием, изяществом словесного рисунка. В его честь названа одна из наиболее престижных литературных премий Японии.
* * *
От переводчика
У всякого свой вкус – кому-то и полынь сладка.
Японская пословица
Что кажется мне прекрасным, что я хотел бы написать, – это книгу ни о чем, книгу без внешней привязи, которая держалась бы сама по себе, внутренней силой стиля, как земля держится в воздухе без всякой опоры…[1 - Перевод Е. М. Лысенко.]
Гюстав Флобер
Из письма Луизе Коле, 1852 г.
Я желал бы снова вызвать к жизни постепенно утрачиваемый нами «мир тени», хотя бы в области литературы. Мне хотелось бы глубже надвинуть карнизы над дворцом литературы, затемнить его стены, отвести в тень то, что слишком выставлено напоказ, снять ненужные украшения в его залах.[2 - Перевод М. П. Григорьева.]
Дзюнъитиро Танидзаки
«Похвала тени»
Дзюнъитиро Танидзаки (1886–1965) – один из самых интересных и значительных японских прозаиков XX века. Еще при жизни ставший классиком, он по сей день приковывает к себе внимание исследователей и переводчиков, а его манера письма по-прежнему поражает читателей не только своей яркой самобытностью, но и неожиданной современностью.
Танидзаки из той породы писателей, которых принято называть «артистами», «виртуозами стиля». Эстетическое мироощущение составляло основу его философии жизни и искусства. С первых шагов на литературном поприще и до конца дней он оставался верен своему кредо: искусство – не подражание, не имитация жизни, а «создание нового, еще небывалого»[3 - См.: Дзюнъитиро Танидзаки. Мать Сигэмото. Повести, рассказы, эссе. М.: Изд-во «Наука», 1984. С. 210.]. Он верил в силу творческой фантазии, позволяющей глазу художника проникнуть за внешнюю оболочку вещей и увидеть в преходящем, конечном след вечности и тайны.
Укорененность в японской культуре сочеталась у Танидзаки с пылким увлечением литературой Запада, которую он усваивал по принципу «избирательного сродства», через книги близких ему по духу писателей – среди них в разные годы оказывались Эдгар По, Оскар Уайльд, Шарль Бодлер, Жорис-Карл Гюисманс, Стендаль, Гюстав Флобер, Джордж Мур, Реймон Радиге, Томас Гарди… Но сколь бы велико ни было влияние на него тех или иных чужеземных авторов (оно легко прослеживается в первых, ученических опытах Танидзаки), от прямого подражательства его уберегали неподдельная самостоятельность дарования и удивительная чуткость к стихии родного языка. Не случайно за пределами своей страны он приобрел стойкую репутацию мастера «истинно японской чеканки».
Имя Танидзаки хорошо знакомо российскому читателю. Многие из самых известных его сочинений: повестей, рассказов, романов, эссе – переведены на русский язык и неоднократно переиздавались. Однако существуют произведения, без которых творчество писателя не может быть воспринято во всей своей полноте и цельности. К числу таких произведений принадлежит роман «Кому-то и полынь сладка» («Тадэ куу муси», 1929).
Танидзаки приступил к его созданию уже будучи знаменитым, сложившимся беллетристом. Ревностный приверженец неоромантического эстетизма «конца века», он славился пристрастием ко всему таинственному, болезненно-странному, демоническому. Тщательно продуманная композиция, затейливый, динамично развивающийся сюжет, изысканный, на грани прециозности язык[4 - Рюноскэ Акутагава, один из самых проницательных и нелицеприятных критиков Танидзаки, восхищался его умением «выискивать и шлифовать различные японские и китайские слова, превращать их в блестки чувственной красоты (или уродства) и словно перламутром инкрустировать ими свои произведения» (перевод Б. В. Раскина).] – вот характерные приметы стиля раннего Танидзаки. И вдруг из-под его пера выходит книга, совсем непохожая на предыдущие, – книга, говоря по-флоберовски, почти «бесплотная», где «форма уходит от всякого чинопорядка» и «стиль сам по себе есть совершенный способ видеть мир»[5 - Гюстав Флобер. О литературе, искусстве, писательском труде. Письма. Статьи. М.: Изд-во «Художественная литература», 1984. Т. 1. С. 162.].
На первый взгляд в «Полыни» нет ничего необычного, заведомо оригинального. В центре повествования – супружеская пара, переживающая семейный разлад. Муж и жена давно уже охладели друг к другу и всерьез подумывают о разводе, однако существует нечто, мешающее им разорвать опостылевшие узы. Вместо того чтобы расстаться и обрести желанную свободу, они продолжают мучить себя и друг друга. Поистине – «кому-то и полынь сладка»…
Такова внешняя, сюжетная канва романа, но в нем есть и другой, глубинный план, связанный с осмыслением неизбежного в эпоху стремительной модернизации конфликта между культурными и моральными ценностями Востока и Запада. Поиск новых жизненных опор и новой культурной идентичности становится одной из важных тем и движущих сил повествования.
И все же главный интерес романа состоит не в событиях, не в психологии персонажей и не в сюжетной интриге как таковой, а в самой его атмосфере, в смене ритмов и ракурсов, в «комбинации вещей, плетущей узор светотени»[6 - Дзюнъитиро Танидзаки. Избранные произведения. М.: Изд-во «Художественная литература», 1986. Т. 1. С. 510.]. Показательно, что действие так и не приходит к развязке: в решающий момент автор отступает в сторону и передает свои полномочия читателю, который должен завершить рассказанную ему историю. Открытый финал размывает границу между «иллюзией» (литературой) и «действительностью» – повествование словно бы выплескивается из своих берегов и перетекает в беспредельность жизни. «Развязка заключена не в конце, а в освобождении от конца»[7 - О. А. Седакова. О русской словесности. М.: Изд-во «Время», 2023. С. 142.], – не эту ли мысль пытается внушить нам Танидзаки?..
При всей своей естественности и прозрачности, язык романа далеко не прост, и дело не в наличии в нем каких-либо тайных, зашифрованных знаков; его секрет – в тонкой нюансировке, в незаметном переключении регистров, в модуляциях авторского голоса. То, что на поверхности выглядит как объективное описание характеров и обстоятельств, сплошь и рядом оказывается лирическим самовыражением автора, незримо присутствующего в тексте.
В сложной, несмотря на внешнюю бесхитростность, фактуре письма Танидзаки ощущается рука художника эпохи модерна. Это утверждение может прозвучать странно: в Танидзаки привыкли видеть скорее традиционалиста, чем новатора, да и сам он избегал преднамеренной новизны. Его «модерность» проявляется не в изобретении радикально новых форм, а в оживлении забытого и, казалось бы, навсегда отринутого старого, в стремлении вернуть языку литературы утерянную пластичность и многозначность. Он учился у японских мастеров прошлого искусству недосказанности, умению строить повествование с таким расчетом, чтобы отдельные его части, сопрягаясь между собой, порождали все новые мерцания смысла, а владеющие автором чувства вызывали ответный отклик в душе читателя.
Критики Танидзаки не раз упрекали его в интеллектуальном дилетантизме, чрезмерной субъективности, равнодушии к насущным проблемам времени. Спору нет, прозу Танидзаки не назовешь ни «умственной», ни «объективной», ни «актуальной». Ее сила в другом – в особом устройстве авторского зрения, в том внимательном, укрупняющем взгляде, который умеет отвлекаться на подробности, замечать случайное и оставлять нетронутым скрывающийся в глубине вещей запас таинственной темноты.
Т. Редько-Добровольская
Кому-то и полынь сладка
1
«Так что вы решили – ехать или нет?» Этот вопрос Мисако задавала мужу не раз в течение утра, но тот, как всегда, отвечал уклончиво, не давая и ей возможности распорядиться собой. Так в тягучей неопределенности прошла половина дня. Около часу пополудни Мисако искупалась и на всякий случай привела себя в порядок, после чего с вопросительным видом села возле мужа. Однако и на сей раз никакой внятной реакции от него не последовало.
– Может быть, примете ванну?
– Пожалуй…
Канамэ лежал на татами[8 - Татами – плотные соломенные маты высотой около 5 см и площадью несколько больше 1,5 кв. м; служат для настилки полов в традиционных японских помещениях. – Здесь и далее примеч. переводчика.], подсунув под живот две подушки для сидения, и, подпирая ладонью щеку, читал газету. Уловив исходящий от жены запах косметики, он отвел голову вбок, будто отпрянул, и, стараясь не встречаться с ней глазами, взглянул на нее, вернее, на ее наряд – в надежде, что выбранное ею кимоно подскажет ему искомое решение. Загвоздка, однако, состояла в том, что с некоторых пор Канамэ не очень-то присматривался к нарядам жены. Как всякая заправская щеголиха, она, должно быть, регулярно покупала себе какие-то обновы, но при этом не спрашивала у него советов и не ставила его в известность о своих приобретениях, а потому по нынешнему ее виду было трудно заключить что-либо сверх того, что перед ним изящная современная дама, одетая для выхода.
– А сама ты как расположена?
– Мне все равно… Если вы решите ехать, я поеду с вами… Если нет, прокачусь в Сума[9 - Сума – район Кобэ, расположенный на живописном морском побережье.].
– Ты обещала быть в Сума?
– Да нет… Я могу поехать туда и завтра.
Мисако положила на колени маникюрный прибор и принялась полировать ногти, устремив взгляд в какую-то неопределенную точку над головой мужа.
Подобная нерешительность охватывала супругов не впервые. Всякий раз, когда им предстояло отправиться куда-то вместе, оба занимали выжидательную позицию, стараясь угадать настроение друг друга и не желая проявлять инициативу. Можно было подумать, что они держат в руках наполненный водой плоский сосуд для цветов, следя за тем, с какого края она выплеснется. Иной раз за весь день им так и не удавалось прийти к обоюдному решению, но порой в последний момент внезапно обнаруживалось, что их желания совпадают. Сегодня у Канамэ было предчувствие, что в итоге они все же поедут вместе. Тем не менее он держался по обыкновению пассивно, рассчитывая, что все за него решит какая-нибудь случайность, и это не было пустым капризом с его стороны. Он знал, каким тягостным чувством сопровождается каждое их совместное путешествие, пусть в данном случае речь шла всего лишь о поездке в Дотомбори[10 - Дотомбори – торгово-увеселительный квартал в южной части Осаки.], до которого от силы час пути. Кроме того, он ощущал себя слегка виноватым перед женой: хотя Мисако и сказала, что может поехать в Сума и завтра, Канамэ догадывался, что она условилась о встрече с Асо, а если и нет, то в любом случае ей было бы куда приятнее провести время с ним, нежели томиться от скуки на представлении кукольного театра.
Накануне из Киото позвонил его тесть и, сообщив о своем намерении посетить театр «Бэнтэн-дза», предложил им с Мисако составить ему компанию. Разумеется, Канамэ следовало прежде посоветоваться с женой, но ее дома не оказалось, и он опрометчиво пообещал «быть непременно». Дело в том, что когда-то, желая потрафить старику, он из простой любезности посетовал, что давно уже не бывал в кукольном театре, и попросил в следующий раз взять его с собой. Как видно, тот принял слова зятя за чистую монету. Отказываться в такой ситуации было неловко, к тому же другого случая не то что посмотреть вместе кукольный спектакль, но просто повидать тестя и спокойно, без спешки с ним побеседовать могло уже и не представиться.
В свои без малого шестьдесят лет отец Мисако жил на покое в Сисигатани[11 - Один из районов Киото, славящийся живописным природным окружением, а также старинными храмами и историческими памятниками.], культивируя привычки человека утонченного вкуса. При том, что Канамэ не разделял его интересов и впадал в молчаливое раздражение всякий раз, когда старик принимался к месту и не к месту щеголять собственной эрудицией, он уважал тестя за прямоту и свободу от условностей – качества, которыми тот, судя по всему, был обязан своей бурно проведенной молодости. Канамэ с сожалением думал о том, что вскоре связующие их родственные узы оборвутся, и это, как ни странно, печалило его даже больше, чем грядущий разрыв с женой. Не претендуя на роль образцового зятя, он, тем не менее, считал себя обязанным, пока они с Мисако официально остаются супругами, хотя бы разок продемонстрировать старику свою привязанность.
И все же он не должен был принимать приглашение тестя, не посоветовавшись с женой, – он всегда считался с ее желаниями. Так было бы и вчера, но под вечер Мисако ушла, сославшись на необходимость «сделать кое-какие покупки в Кобэ», Канамэ же подозревал, что на самом деле она отправилась на свидание с Асо. Разговаривая с тестем, он живо представил себе, как она прогуливается под руку со своим любовником по морскому берегу в Сума. «Раз они встречаются сегодня, – рассудил он, – завтра она будет свободна». Впрочем, возможно, Канамэ был неправ, усомнившись в искренности жены: до сих пор Мисако ничего от него не скрывала, и если она сказала, что едет за покупками, скорее всего, так оно и было. Она не имела обыкновения лгать, да в этом и не было никакой нужды. Тем не менее существуют соображения такта, не позволяющие лишний раз напоминать мужу о вещах, заведомо для него неприятных, и то, что Канамэ принял ее слова о «поездке в Кобэ» за отговорку, не свидетельствовало о какой-то особой мнительности с его стороны – в его положении это было естественно. Да и сама Мисако наверняка понимала, что, давая согласие на поход в театр, он отнюдь не руководствовался ревностью или стремлением как-нибудь ей досадить. Но, с другой стороны, даже если они с Асо виделись накануне, из этого вовсе не следовало, что сегодня она не захочет встретиться с ним снова: поначалу их свидания происходили не так уж часто – раз в неделю, а то и в десять дней, – теперь же они могли видеться и по два, и по три дня кряду…
Когда спустя минут десять Канамэ вышел из ванной комнаты в наброшенном на плечи купальном халате, он застал жену за прежним занятием: уставившись в пустоту, она механически полировала ногти.
– Вам в самом деле хочется в театр? – спросила Мисако, поднеся к глазам отшлифованный до глянцевого блеска острый ноготок большого пальца и не поворачивая головы в сторону мужа, который с зеркальцем в руке причесывался на веранде.
– Да нет, не особенно. Просто однажды я имел неосторожность обмолвиться, что был бы не прочь побывать на кукольном спектакле.