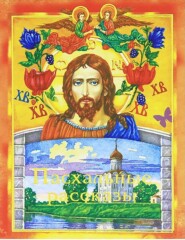По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Святочные рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Концы ободранных сапог, очевидно, глубоко интересуют несчастного мальчика, гораздо больше, чем задаваемые ему вопросы.
– А поп тебя крестил?
– Палкой раз… Поп-от… На улице… – вспоминает мальчик, имеющий понятие о крещении по весьма популярной в его подвале фразе: «вот я тебя окрещу!»
– Да откуда ты?
– С Васильевского…
– Что?
– С острова…
– Родом-то, родом?
– С дома Максимова…
– Да у тебя мать была?
– Не знаю… Должно – нет…
– Отца помнишь?..
– Отца не было… Я без отца…
– Вот тебе на!.. Пожалуй, и без матери?..
– Точно… мамки не было… я от двух теток пошел, – утверждает Федька с столь безмятежным спокойствием совести, что никаких сомнений в его происхождении от двух теток и быть не может.
– Экой ты глупый! – соболезнует спрашивающий.
– Я глупый… Федька глупый…
– Сколько же лет-то тебе?
– Лет… Лет много…
– Много?! Ну!.. А сколько именно?
– Не знаю… А только больше, чем Волчку, – поясняет Федька.
– Ну!
– А Волчка немец Фридрих большой собакой называет… Мне лет, должно, много уж…
– Ах т, дурак, дурак! На тебе и креста, пожалуй, нет?
– На мне креста нет! – уже совсем решительно отвечает Федька, которому баба, стряпающая на Фридриха и других акробатов, постоянно ставит на вид: «Креста на тебе нет, дьяволенок ты паршивый!..»
– Ах ты, дурак, дурак! – И спрашивающему, разумеется, остается одно – как можно поскорее отойти в сторону от этого развращенного в столь раннем возрасте мальчика.
Глупый Федька действительно не знал отца, не знал и матери.
Где-то в деревне, должно быть далеко, потому что Федька словно сквозь сон помнит много деревень, через которые он прошел из той, прежде чем попал на Васильевский, в дом Максимова, – где жила баба; называл Федька ее теткой, а другие ее дразнили солдаткой… Тетка и он с утра ходили под окна просить милостыню; их гнали, иногда били, тем не менее оделяли хлебом. Хорошо было тогда, когда в деревню ставили солдат, да и то хорошо было тетке, потому что она ходила пьяная, пела песни во все горло и похвалялась всей деревне показать, сколь в ней много строгости есть; но деревне она, кроме своей безобразной хари, ничего не показывала, а вся строгость доставалась на долю Федьки. В эти редкостные периоды торжества «Кузькиной матери», как называли в деревне тетку-солдатку, Федька ходил с проломленной головой, с исполосованной спиной… Иногда Кузькина мать приказывала ему пить водку, и, когда трехлетний Федька захлебывался и кашлял, тетка вырывала у него из головы клок волос и, пихая ему в рот, орала во все свое пьяное горло:
– На, подлец, закуси!.. Проглоти, солдатское отродье!.. Подавись, каторжный, подохни!
Каторжный давился, но умирать не умирал, почему его за несогласие выгоняли на улицу. Таким образом, уже тогда улица для Федьки была вторым отечеством. Осуществлявшая идеалы спартанского воспитания, Кузькина мать так и не дождалась, когда Федька подохнет, потому что подохла сама: «с морозу или с вина – в том мы неизвестны», докладывал об этом «несчастном случае» волостной старшина становому. Когда Кузькину мать потрошили, Федька очень плакал, хотя вовсе не мог сказать, что ему тетку жалко. Мир ему нашел другую тетку, и эта последняя согласилась вступить с Федькой в теснейшие узы священного родства за три рубля денег, полуштоф водки и красный платок. Разница в родственном общении оказалась невеликою. Кузькина мать била наотмашь и лаялась; а эта молча тыкала кулаком прямо, точно хотела насквозь пробить Федьку, и чем более убеждалась в непроницаемости этого маленького, худенького, совсем синего тельца, тем более злилась. И злоба ее была совершенно справедлива, ибо от полуштофа не осталось и воспоминания, три рубля денег были израсходованы на угощение завернувшего в деревню проездом кузнеца-знахаря, а красный платок был унесен и съеден соседскою свиньею, о чем единогласно свидетельствовали показания древней старухи, видевшей самолично происшествие, но, по дряхлости, не могшей ему воспрепятствовать, и старостихой Дарьей, рассказывавшей это событие по слухам, но так, как бы она сама его видела…
Таким образом, Федька, явившийся в мир без отца и матери, пошел от двух теток.
Новая тетка, изголодавшаяся дома, отправилась на заработки в Питер. Совалась с мальчиком – никуда не принимали.
– И зачем ты только, паршивый, уродился! – убивалась она.
Паршивый на это «зачем», как ни ломал голову, ответить не мог.
– Кабы у тебя совесть была, давно бы сдох, проклятый!
Федька совестью обладал несомненно, но почему не «сдыхал» – сам понять не мог, хотя против этого он не имел ничего.
Ему даже понравилась эта мысль: положат во гроб, вымыв и одев во все чистое, а там бережно опустят в могилку, засыплют землею – и тепло, хорошо и безмятежно будет ему, бедному, спать в тесном сосновом домике. Никто не назовет его там проклятым; жалкое тельце его отдохнет от колотушек и щипков; маленьким, слабеньким ножкам, что так до боли устают в напрасных стараниях поспеть за теткою, там уже не будет иного дела, как лежать, неподвижно вытянувшись, упираясь в переднюю доску гробика… И глаза, больные, бедные глаза, вечно красные от золотухи, вечно заплаканные, закроются совсем, чтобы уже никогда не открываться, никогда не видеть этого сурового, страшного мира…
– Черту бы ты себя продал! – крикнула раз на него тетка, и Федьке до того по душе пришлась эта мысль, что он не раз повторял своими детскими, но уже бледными, совсем бескровными губами:
– Черт, черт, приди и возьми меня! Купи меня, черт, у тетки!..
Но черт был, разумеется, гораздо умнее, чем предполагал бедный мальчик. И напрасно Федька, обливаясь слезами, призывал черта – он не являлся, будучи, вероятно, занят в это время охотою за более интересными экземплярами рода человеческого.
И так как черт не являлся, а смерть не приходила, бедные ножки глупого Федьки без отдыха бегали за теткою по всему городу, по всему этому Вавилону, в шуме и гаме которого она слонялась, тщетно стараясь найти себе хозяина или хозяйку. Проклятое детище всему было помехою.
Наконец… хорошо помнит этот день глупый Федька.
Моросило сверху, было мокро снизу. Небо плакало, земля точила слезы; даже с холодных камней домов, с равнодушных, все – и горе, и счастье – одинаково показывающих, стекол окон беспрестанно скатывались те же холодные слезы. Тетка привела Федьку в какой-то переулок.
– Погоди меня здесь, слышишь!
Странное дело, Федьке что-то новое почудилось в голосе тетки… Точно ласковое… Дрогнуло маленькое сердчишко; заплакать хотелось, да удержался. Вчерашние синяки не зажили еще… Чего доброго…
– Погоди же, голубчик, не ходи за мной.
– Не-пой-ду… – принимался уже за слезы Федька, не осилив с собой.
Много ли надо было этому захирелому цветку, чтобы доверчиво раскрыть свои лепестки! Слабый проблеск, едва заметный луч нежности уже согревали его.
– Я тут в один дом… наниматься… наниматься… Наймусь – калач куплю… Вот тут… недалечко… – говорила она, уходя и оглядываясь на ребенка: – Ты сядь… в уголочек сядь… вот у тумбочки… ну и сиди… Сиди, Федька!.. – крикнула она, поворачивая за угол.
Угол был пустынный, переулок безлюдный.