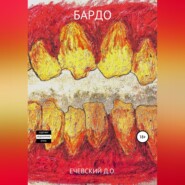По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Бардо
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Всякая разумная мера, собрав волосы в хвостик, затем нервно распустив и для пущей уверенности бережно-быстро заплетя их в косичку, подправив помаду, подчеркнув ресницы и собрав все необходимое в чемодан, разбила свой череп о стену. Роман не здесь.
Все хорошо. Лето. Летний вечер. Они идут под сенью лета. В одной его руке – ее рука, в другой его – баночка от кофе, с кофе, что полуполна.
Не полупуста, не так, как раньше. И он чувствует ветер, как он сквозь него и через все… в безмятежное «может?»… Жизнь так близка! Он на ветру, она – как ветер.
Жизнь вибрирует стаканчиком, потеет ручкой ангела. В его руке. Ее волосы – тонкие русые камни, разлитые краской по майке. Ветрятся, волнятся. В них отражается свет фонарей.
Они под фонарями, как под теплыми великанами, что горбатятся добро. Слева – дорога, а справа от них раскинут парк.
Они говорят. Говорят о многом, много. Столь много есть им рассказать друг другу. Друг о друге. Но спроси их кто-нибудь вдруг: «О чем вы говорили?» Они не нашлись бы, что ответить.
Ведь пока их рты, казалось, были заняты словами, их умы следили за глазами, смотрящими друг в друга, друг на друга. И под конец, сказав столь многое, никто из них все ж не сказал ни слова из того, что хотел. О самом главном все молчат. Нет времени на слова.
Они гуляют до Вериного дома. Внезапная подмога. Вера приглашает его к себе на чай, на чай с Романом, что пьют вдвоем и пьют до самой ночи, даже дольше. Они болтают дальше. Дальше. Дальше. Много. Пьют и чай совсем недолго. Лишь недолго, потому что очень сложно пить и дальше чай, лежа в кровати, да притом в обнимку в страсти.
Это мгновение прекрасно, как и последующее прекрасно. Как и все прекрасное – прекрасно. Когда все кончено, Роман молчит. Ведь он не знает, что же будет дальше. Должен он уйти или остаться? И вот Вера говорит, что боится спать одна. Она всегда спит одна.
И если бы на этом все кончалось, на моменте, когда они вдвоем укрылись в постели без одежды, несчастные без надежды, но Романовы бездны озираются, озираются, озираются по всем сторонам, чтобы увидеть свое первое воспоминание.
В конце концов глаза каждого, каждого-прекаждого, ищут тепла. А если озера лица ищут крови и хотят ее есть? Звездная фонарная лампа еще висит над ночью. Луна светит тьмой. Если глаза не ищут тепла, то это не человек. Это Бог. И вместо жизни в Нем – смерть. Ужасно, но нелюдей куда больше, чем людей.
Лед ищет тот, кому было отказано в тепле. Лишь в холоде не замерзнуть до смерти. Его глаза мстят за то, чего никогда не видели. Его голодные рты хотят пустить теплую кровь – как кипяток в лед – за то, что холод не позволил ему стать человеком. Это монстр. Если существуют чудовища, то только несчастнейшие из всех возможных.
Первое, что помнит Роман – это завод материнской груди. Место, где производится любовь. Не помнит, но чувствует, как мать положила его на свою печь. На свою жгущую любовь. И как он впитался в ее малиново-нежную кожу. Роман чувствует, как аккуратно-любя билось ее сердце. Как этот стук-постук простукивал каждую вещь на свете, отзывался эхом из каждой пещеры будущего, пропитывал каждый кусочек настоящего, бережно положенный в ротик, был всем, что существует. Весь мир – это биение. Биение маминого сердца. А потом этот стук исчез.
И на каких бы пляжах ни лежало его сердце, ему не согреться и не услышать тот стук-постук. Мир умер. А все, что за этим последовало: какой-никакой дом, детский сад допоздна, а иногда на всю ночь, школа – это похороны матери, что никак не заканчиваются и не могут закончится и никогда не закончатся, потому что невозможно поверить, что она могла умереть, да еще и так, как будто она никогда не жила.
Нет, он видел, она была, она выходила в магазин. Может, мама просто потерялась и скоро придет?
– Пап, пап, а где мама?
– Отвали, че те надо? Мамы нет, у-все.
– А когда она придет?
– Иваныч, это че, сын твой? – вдруг весело потянуло перегарным сквозняком из уст силуэта, сидящего за столом. Бородатого, как бритва, что многое брила. Обрамленный пластиковой скатертью стол. С узором цветочков цвета мочи. Запах малосольных огурцов, слитых с помидорами, борющийся против вони гниющего табачного налета на зубах, которые, как пьяные грязные моряки, глядят, едва не выпадая за борт.
– Это кто так пацанёнка? – желто-синий палец утыкается в Романа. Синяки от побоев.
– А те че? Не суй свой нос, пока тебе не оторвали! Понял?
– Пап, когда придет мама?
– Кто-у разрешил те сюда? Я-у сказал, а ну, те заняться нечем? Иди, уроки вон!
– А ма-ма?
– У тебя нет мамы!
– Но я видел, она был-а..
– И никогда-у не было! Здесь я был! Иди отсюда-у-у! Это мой дом, и я его построил, тут у-у-все мое-о! Я здесь говорю, что делать! Не суйся ко мне, понял?!
Малявка. Папа убил маму? Это правда? Сон думает за Романа. Но Роман не спит. Роман спит наяву. Так сказали забияки в школе. Забияки? Тупое слово. Так сказали нелюди.
Сначала они говорят, что защищают тебя, и ты веришь им. Думаешь, они любят тебя.
Мое тело – это храм. Но молятся в нем не Богу. В нем никому не молятся. В нем молится сам себе – дьявол.
Мое тело – это тюрьма, в которой я спрятался. Но в этой тюрьме я не один, больше нет. Теперь я вижу, теперь я выглядываю из окна своей камеры и вижу, что за окном ничего нет. Потому что весь мир здесь, со мной, в моей тюрьме, в моей камере, в моем сердце, во мне. А во мне – ничего нет.
Роман видит осколки, помнит лишь их. Но целого нет. Не существует. Где ее лицо? Забота. Тепло. Ласка. Ваниш. Или все же Калгон? Их нет, но есть все хорошее в нем. Все хорошее от нее. Успело впитать, как швабра моющее средство, тонкое сердце Романа.
Он никогда не знал и не узнает, что с ней произошло. Люди говорили разное. Мама умерла. Мама убежала. Мама убита отцом. Или просто тяжело вздыхали обо всем.
Роман искал и ищет до сих пор тепло ее несуществующих глаз: на полках в магазине, под матрасом, в Вериных глазах. Но в Вериных глазах только – ничто.
В конце концов он сам создал ее образ. Из книг, рассказов. Эх, романтика. Вся его жизнь превратилась в поиск утраченной мамочки. Иногда кажется, ее не было никогда. Есть Вера, есть смысл не сдаваться. Ха-ха.
Одиночество осязаемо. Осязаемо даже во сне. Все осязаемо, когда слишком. Когда много. Чувство того, что ты мусор. Съедаемый меж зубьев трактора, но не до остатка, а так, чтобы ты еще – остался.
Но. Любовь. Больше всего любят тех, кого нет. Когда оборачиваешься. И еще раз. И по кругу. Не понимаешь где. А он в тебе. В тебе. Внутри. Всегда там был. Ты не один, если нашел в себе другого. Но если ты нашел в себе кого-то, кроме себя, не значит ли это, что ты сошел с ума?
Молодой человек
«Они явятся, вцепившись верхними зубами в нижнюю губу; с остекленевшими глазами; с волосами, завязанными на макушках; с большими животами и тонкими талиями; держа в руках дощечки для записи кармических деяний; издавая крики «Бей! Убивай!», облизывая человеческий мозг, отрывая головы от трупов, вырывая сердца: так явятся они, наполняя миры».
«О высокородный, если ты не узнаешь их сейчас и из чувства страха бежишь от сих божеств, тебя ждут новые страдания. Если этого не знать, охваченный страхом перед Пьющими Кровь Божествами, человек испытывает трепет и ужас, и, погружаясь в обморок, уносится дальше: его собственные мыслеформы превращаются в иллюзорные видения, и он погружается в сансару».
Бардо Тхёдол. Тибетская Книга Мертвых.
Но где же все-таки Роман? Ведь он не там, где его нет. Он там, где там. Хотел бы быть, но он не там, где он хотел бы. Тра-ла-ла.
И раз, два, три…
(Заводим Романов мотор).
Проснись! Проснись!
Проснитесь, глазки!
Думай, сердце!
Крылья, летите!
Не сдавайся, пропасть!
Пропади, пропажа!
Другие электронные книги автора Данил Олегович Ечевский
Другие аудиокниги автора Данил Олегович Ечевский
Бардо




 0
0