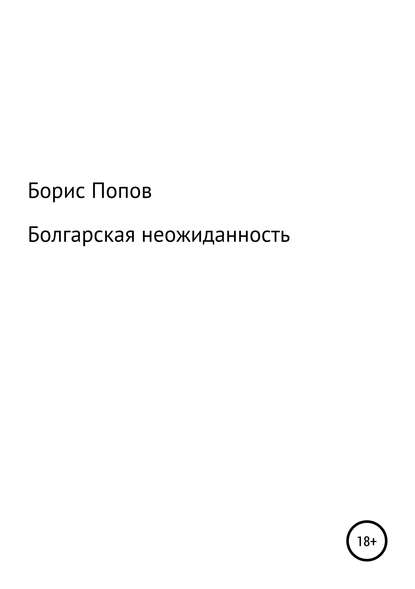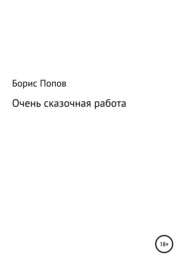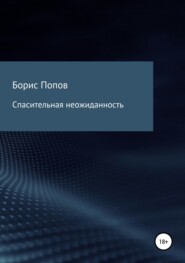По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Болгарская неожиданность. Книга 5
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лубен умолк, а то вдруг богатыри дадут за возражения щелбана. Насмерть ведь ушибить могут!
– Продолжим? – пророкотал Тодор.
– Конечно! – прогромыхал Тома.
И братья-великаны продолжили свое черное дело. И следующий меч бесславно повторил судьбу предыдущего один в один.
Лубен не вытерпел и заорал:
– Хватит мне тут товар портить! Наели рожи здоровенные и начали сдури мечи ломать!
Близнецы посмотрели на меня. Я хамам и бракоделам никогда не сочувствовал, и вместо того, чтобы подставить щеку под удар, как это проповедует моя религия, всегда уворачивался и наносил ответный удар. Поэтому ответил:
– Уговор дороже денег, у меня свидетелей толпа!
– Точно! Топчи гада до последнего! – отозвался истинно православный болгарский народ.
И мы продолжили. Куски мечей и сабель ложились на землю один за другим. Лубен сначала негодовал и кричал, бросался спасать свои железяки, но братья по очереди бережно ловили его двумя могучими пальцами за кафтан, проносили по воздуху и ласково отбрасывали за его же прилавок. После очередного падения он вылезал из-под прилавка не сразу, и под стать всем отцовским изделиям: весь какой-то перекошенный и перекособоченный. Потом стал надрывно рыдать и просить отдать остальные отобранные мной мечи и сабли. Но Лубен не был мужикам любимой женщиной, и его мамы в толпе не было, а к его соплям и слезам бессердечный народ отнесся равнодушно. Лубен бросился к пожилому мужчине, которого грубо отшил в самом начале.
– Дядя Калоян! Избавь от беды!
Ответ его не порадовал.
– Я тебе никакой не дядя, а просто ненужный старый! И кровного родства между нами нету.
А работа между тем велась неутомимо.
– Тома! Тодор! Тома! Тодор! – приговаривали молотобойцы.
Скоро все отобранные мною мечи и сабли закончились, и братья поинтересовались, изымать ли на проверку остальной товар. Народ заорал:
– Круши, все, что можно! Долби поганца! Да накиньте еще пару оплеух и самому Лубену, чтобы впредь неповадно было со своей мерзостью на наш рынок соваться!
– Тихо, добрые жители Хасково! – прокричал я голосом опытного оратора, вскинув вверх правую руку.
Гомон стих.
– Лубен не враг нам, и уговора крушить все его имущество не было. Поэтому мы заканчиваем наше представление, и я ухожу.
Братья согласились, и шоу оборвалось. Я бросил старые ножны Аль-Тана к Лубену на прилавок и пояснил:
– Это вам с отцом подарок от кузнеца-бракодела из Добра-Поляны. Вспоминайте его добрым словом! – вставил Аль-Тан в новые ножны и удалился, а народ сомкнулся возле Лубена. Я уходил, а сзади меня нарастал народный рев, бессмысленный и беспощадный.
На выходе с рынка был пойман Наиной. С подозрением глядя на меня, она спросила:
– А что это там за галдеж? Не ты ли затеял?
– Что ты! – глядя на нее честными серыми глазами заявил я. – Мы с Аль-Таном ему новые ножны покупали.
– Точно?
– Конечно! – развел я руками.
Наина чуяла мою ложь пытливым женским сердцем, но никаких фактов у нее в наличии не было, а я не Ваня – силой из меня ничего не выдоишь. Она вздохнула и отвязалась. Я проводил своим законопослушным взглядом ватагу рванувших на шум стражников с алебардами, вздохнул, и мы удалились с рынка более быстрым шагом, чем на него пришли.
С нашими встретились за обедом. Пока ели, вернулась и почему-то запыхавшаяся Ванча. К любимому так сильно бежала что ли?
– По всему городу уже каких-то приезжих разыскивают, в связи с тем, что некоего Лубена на рынке очень сильно побили и весь товар ему переломали. Все местные торгаши на какого-то никому не известного человека вину валят. С виду он не болгарин, цвет волос и глаз не наш, да и одет как-то не по-нашему. Хотя по-болгарски говорит очень чисто.
Наши глядели на меня, и им все было ясно.
– Ну и порядки в этой вашей Болгарии! – посмеиваясь заявил Богуслав. – Неизвестный приезжий, средь бела дня на глазах у всего рынка избивает купца, круша его товар, и никто не вмешивается! Прямо боязно на улицу выйти – вдруг этот ухарь где-то близко ошивается? Того гляди и нас обидит! Вова, ты его не видал?
– Нет, – ответил я. – Бог миловал. Зашел на базар, схватил первые же попавшиеся ножны и быстро убежал.
– Ну мы тут тоже вроде все переделали, – хлопнул себя ладонями по коленям Богуслав. – Поехали поскорей из этого страшного Хасково, покуда целы!
Из Хасково мы выехали без всяких приключений. Морозец крепчал, уверенно сменив температурный плюс на минус, началась привычная для нас, русаков, пурга. Ванча такое увидала первый раз в жизни. Особенно ее поразила стелющаяся под копытами лошадей поземка. Она ежилась от невиданного в Болгарии холода, втягивала голову в плечи, пытаясь защитить хотя бы открытую шею, и постоянно боролась с желанием спрятать покрасневшие от мороза руки в карманы. Но на коне Ванча держалась еще неуверенно, и отпускать поводья боялась. Черные густые волосы непривычную головенку защищали не ахти как. Ни платка, ни рукавиц у болгарки, по-видимому, сроду не было. А Богуслав, привыкший к своим закаленным русским ратникам, не замечал этой женской трагедии и разливался соловьем о своих и чужих подвигах на поле брани.
Ваня с Наиной уже утеплились. Даже кокетливая иудейка защитила голову симпатичной шапочкой из неведомого мне меха, а на ладошки натянула рукавички с элегантным ромбическим рисунком. Ваня нахлобучил на голову заячий треух, а на рукавицы пока забил – мороз, по нашим новгородским понятиям, был невелик. Я догнал молодых и спросил:
– Ная, а у тебя запасной шапочки не будет?
– Владимир, – недоуменно спросила Наина, – ты ее на Марфу что ли собрался надевать? У тебя-то вроде боярская шапка в сумке лежит ого-го какая.
– Да вон непривычную к холоду Ванчу вовсю корежит.
– А чего ж за ней Богуслав не смотрит?
– Да увлекся, понимаешь, старый рассказами о своих похождениях, и ничего вокруг себя не видит. Токует, как глухарь тетерке, и ничего вокруг не замечает, и не слышит. А она боится ему лишний раз слово поперек молвить – вдруг обозлится и бросит в первой же встреченной деревухе.
– А ты чего, мастер, в эту историю ввязываешься? – поинтересовался Иван. – Тоже что ли потащился на невиданную болгарскую красавицу? Как-то прямо в рифму получается: бояр полюбил болгар!
Молодые грубо заржали. Я не обиделся. Молодость требовала душевной отдушины для отдыха от занудливой и монотонной ежедневной езды. Разговоры уже все переговорены, все темы исчерпаны, дорожных впечатлений практически никаких. Насчет сострадания у них видимо не густо, значит повлияем другим Макаром, нажмем на струны разумного расчета.
– Я вам вон что скажу, русские красавцы и еврейские красавицы: сейчас Ванча озябнет, а к ночи ее прошибет неведомая даже мне болгарская лихоманка, и сколько я ее буду лечить, сие нам неведомо. Зависнем еще на месяц в какой-нибудь местной Лесичарске или Богучарске, вот тут-то вам и отольется горючими слезами ваше скопидомство!
Мне тут же был выдан Наинин пуховый платок и здоровенные меховые рукавицы от Ивана. Рукавицы, конечно, были слишком велики, но как говорится за неимением гербовой пишем на простой.
– Пока отъезжайте недалеко, скоро лошадей менять будем, и я вас позову.
Я остановил коня и подождал слегка приотставших влюбленных в возрасте. Пока ждал, посоветовался с Полярником. Тот уточнил все, что было нужно в Интернете, и я стоял уже географически подготовленный к беседе с Богуславом. На Ванчу было горестно глядеть, так она озябла. Ее аж трясло!
– Богуслав, – позвал я русского тетерева, – ты тут увлекся разговорами, а уж пора лошадей менять.
– Да ладно! – взялся отвергать мою идею бывший воевода. -Только-только выехали!
– Это только-только, – пояснил я, – длится уже два часа. Лошади устали, а женщинам пора посетить кустики.