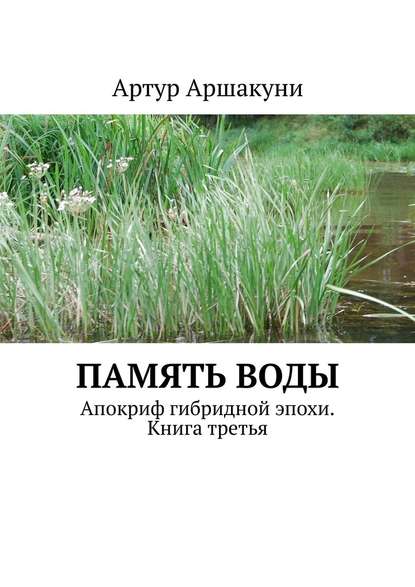По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Память воды. Апокриф гибридной эпохи. Книга третья
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он машинально раздавил виноградину зубами и с отвращением сплюнул.
Экая кислятина.
– Ну что ж, – сказал он, – ты сама
Посмейся, Флакк, посмейся.
выбрала свою судьбу.
Ты старая лысая обезьяна.
Амфион, уведи ее.
Он прошелся по мраморным плитам, успокаиваясь. Заметил писца, старательно перебирающего свои рукописи.
– Продолжим, – сказал он. – «К Флакку».
И вернулся на место.
Уж того, что я объективен, ты не можешь отрицать.
– Худшим наказанием для хозяина является неблагодарный раб.
Подумал.
– Что? Не пиши этого.
Макрон.
– Пиши: из всех пороков человеческих наихудшим является неблагодарность. Написал?
– … Неблагодарность. Да, мой господин.
Давай отдохнем, старина.
Обезьяна. Но старая.
– Убери «Флакка». Приготовь ежедневник. Так.
Вздохнул.
– День прошел без происшествий. Читал Гомера. Занимался обычными государственными делами. Продал рабыню.
Подумал.
– Нет, про рабыню не надо. Достаточно.
И взмахом ладони удалил писца.
* * *
От Нового города через Предместье к Верхнему городу шла нищенка. Шла тяжело, останавливаясь поминутно и переводя дух не только из-за ведущей вверх, к Сиону, дороги, но и потому что было ей худо.
Мало ли нищенок в славном, богоизбранном Иевусе!
Но эта отличалась от прочих.
Во-первых, она была не местная. Но внимательный наблюдатель не отнес бы ее ни к самарянке, ибо не было на ней простой синей или белой накидки со скромной вышивкой, ни к сирийке при отсутствии покрывала на голове и яркой безрукавки, ни к эллинке, обычно одетой в платье в талию или сарафан с передником и закрывающей голову платком. На ней же была голубая когда-то юбка, сейчас вылинявшая от частых стирок, и голубая же и так же вылинявшая накидка. И никаких украшений, если не считать блеклого высохшего цветка, подколотого простой медной булавкой у левого плеча.
Во-вторых, она не предлагала погадать за деньги или просто кусок хлеба, не рассказывала душераздирающих историй о семерых детях, умирающих от голода и болезней, не читала стихи, не пела на заказ и не танцевала. Она даже не предлагала себя встречным мужчинам, хотя внимательный наблюдатель сделал бы вывод, что до того, как ее коснулась нужда, она была красавицей. Она просто говорила:
– Дай мне хлеба, добрый человек.
И, получив кусок, благодарила, называя подателя воистину добрым человеком. А того, кто отказывал ей, тоже благодарила, хотя добрым человеком больше не называла.
Но чаще она спрашивала о чудотворце, который ходит среди людей и лечит их от разных болезней, лечит бескорыстно, не беря за это ни лепты. Над ней смеялись, ибо считали, что нужда ослабила ее рассудок, и она хочет посредством чуда вернуть себе молодость, красоту, а с ними и достаток. Ее ругали, грозя побить камнями за кощунственные речи в священном городе иудеев. Но обычно презрительно отворачивались и проходили мимо молча.
Чтобы потом обернуться и посмотреть ей вслед.
Что-то в ней было, западающее в душу. Что-то было в ней, отличающее от несчетных других нищенок – с ввалившимися щеками, заострившимся носом, сбитыми в кровь босыми ногами и огрубелыми от работы и холодной воды руками.
И лишь пройдя несколько шагов, прохожий вдруг осознавал: глаза!
Глаза, в которых светилась надежда.
И тогда прохожий останавливался и оборачивался, чтобы посмотреть ей вслед.
Но в этот раз то был не прохожий, так что останавливаться ему не пришлось. Ибо то был слепец, сидящий у рыночной стены вместе со смышленым лобастым щенком, которого поводырем назвать было трудно. Щенок службу нес исправно: потявкивал на одних, принюхивался к другим, а в случае возможной, по его малому разумению, опасности прятался под руку слепца – опаленную солнцем костистую руку с крупной, как лопата, кистью. Предполагаемый наблюдатель обратил бы внимание на то, что щенок не виляет хвостом, не ластится и не выставляет брюшко встречным, то есть не выказывает приязни никому. А вот при беседе хозяина своего с нищенкой щенок повел себя странно: он не полез прятаться под руку, а застыл столбиком, как стоят в пустыне в отдалении караванной тропы суслики, всем видом своим показывая крайнюю степень любопытства.
Тому же предполагаемому наблюдателю было бы непонятно, как произошла их встреча. Потому что только что вот нищенка вышла к рыночной стене, привычно подняла ладони, а потом, словно обжегшись обо что-то, повернулась в сторону слепца. Слепец же, сидящий к ней спиной, начал разворачиваться к ней. Еще два удара сердца, и вот – они беседуют о чем-то, словно знали друг друга всю жизнь.
Щенок беседы их не понимал, но знал точно, что нищенка о чем-то просит его хозяина, а хозяин не соглашается и даже спорит. Голоса их действовали на него умиротворяющее; он ощущал себя словно у теплого брюха матери, окруженный братьями и сестрами. Но потом беседа подошла к концу, и хозяин, крякнув с сожалением, поднялся на ноги и стал показывать нищенке дорогу, уверенно, словно зрячий, поднимая руку к солнцу и отклоняя ее в ту сторону, где оно будет на закате. Потом он вручил нищенке узелок с хлебом и овечьим пахучим сыром и на этот раз остался победителем в новом споре. Наконец, она поцеловала его черную костлявую руку, а он поцеловал ее в лоб, и нищенка ушла, не оглянувшись ни разу.
Щенок побежал за ней, остановился, сделал круг вокруг хозяина, сел, подняв одну лапу и прислушиваясь. Потом подошел к хозяину и ткнулся носом в его ладонь. Ладонь сохранила запах нищенки – удивительный запах моря и горного ветра.
Ладонь хозяина легла на голову щенка.
– Вот так, Лобастый, – сказал хозяин и повторил: – Вот так.
Щенок застыл под его ладонью, боясь пошевелиться.
Хозяин повернул голову с незрячими глазами в ту сторону, куда пошла нищенка.
– Ты Рада, – снова сказал он. – Только я не рад, совсем не рад.
И вздохнул.
Нищенка же шла споро, не всякому мужчине угнаться, а отдыхала несравнимо меньше, так что обычные пять дней пути она преодолела в три, и замедлила шаг, только когда повеяло прохладой с вершины Фавора. Она замедляла шаг еще несколько раз, оглядываясь, словно с сожалением, на плавающий в знойной дымке горизонт, потом снова подхватывала узелок и шла дальше, к белеющим стенам, обозначающим границу между людьми и всеми остальными. Судя по тому, как неохотно встречные отвечали на ее вопросы, как торопливо уходили прочь женщины, словно вспомнившие о срочных делах, и как подозрительно поджимали губы мужчины, каменея лицом, границу эту нищенка не пересекла, хотя и шла уже среди заборов и стен. За ней увязались вездесущие мальчишки, обозвав ее для начала «самарянкой». Молчание ожесточает; затем последовали «нищебродка безродная» и «побирушка приблудная». Самый же из них отчаянный подбежал и дернул ее за рукав платья. Тогда только нищенка обернулась к мальчишкам лицом, выражающим недоумение и боль. Но не слабость, ибо, встретившись с ее глазами взглядом, мальчишки теряли желание придумывать и выкрикивать обидные слова. Потеря обидна; мальчишки перешли поэтому к швырянию камней издалека, но удивительное дело – камни пролетали мимо, далеко от нищенки, что бесило самых настырных, а самых метких приводило в ярость. Нищенка поравнялась с десятком овец, которых загоняла в ворота с распахнутыми створками и со старой, ушедшей в землю скамьей у входа девочка с хворостиной в руках. Камни попали в овец, и начался переполох. Девочка бросилась во двор, крича: