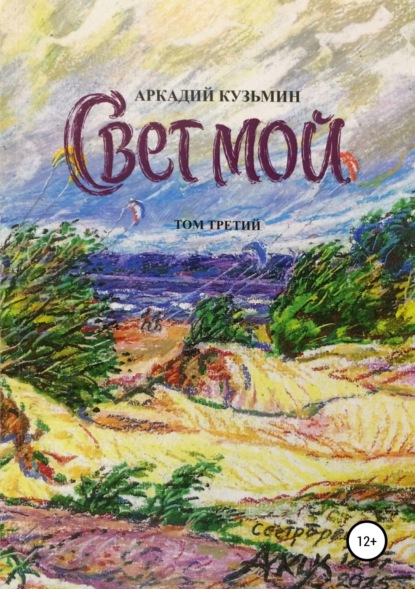По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Berlin bleibt deutsch!
– Венец авантюры – авантюрная расплата, – уточнил Шаташинский.
В этот момент по берлинскому наружному кольцу бесчисленное количество студебеккеров везло и везло в плен обезоруженных, капитулировавших солдат третьего рейха с обессмыслено-потухшими взглядами.
В автобусе один характерный налет усталости осел на всех без исключения лицах: кто наездился, кто насиделся, кто нагляделся и наговорился; но все уже старались вести себя так, чтобы только не обижало друг друга это заметное равнодушие от усталости. А Волков все не мог набраться храбрости, чтобы извиниться перед парторгом; он так разнервничался, что зевал, как ни признавали за ним спокойный характер.
Майор Васильцов уже равнодушнее обычного обещал завезти на обратном пути и на знаменитое озеро, служившее берлинцам местом для воскресного отдыха.
Дождь провожал их отъезд. Запотели с нависшими каплями, точно посеребрились тонко-прозрачно, стекла автобуса и чуть потемнело внутри его.
– Ну, взглянули на Берлин, и можно теперь по домам расходиться, – Папин потер руки.
– Да, почему бы теперь не отменить границы и не распустить многомиллионные армии? – высказался Кашин, и Шаташинский обернулся к нему, сверкнув стеклышками очков:
– В принципе, и немецкий народ хороший, как все народы, но нашлись среди него такие люди, которые нечисты, и Гитлер подобрал их. Действительно, как дико. В познании тайн мирозданья человечество еще движется, а здесь топчется на месте, а если идет, то мелкими шажками. Государства заняты подготовкой пушечного мяса, полноценного солдата. Генералы в исключительном положении, а артисты, художники, рабочие – нет. Люди доверчивы. Они верят, что если это свыше установлено, то значит правильно: там виднее… Наверное, – развивал он, когда среди курортных темно-зеленых сосен засквозило рябившее озеро, и автомашина стала. Он умолк, но по выходе из автобуса повторил еще, точно споткнулся: – Так-то, мальчик мой!
Однако Антон внезапно попросил, кивнув ему на Волкова:
– Вы простили б его за выходку. Он себя не помнил, право.
Помедлив, Шаташинский воодушевился:
– Ну, что ж; ну, что ж. Я никогда не разуверяюсь в человеке. Если неудачен один поступок, – это не значит, что человек дурной. И он сквозь очки поглядел в ширококостную спину удалявшегося Волкова.
И стало можно успокоиться за друга.
XIX
По капельке дождилось, дразня землю, заплывшее небо; пахло прелью, хвоей и смолой и как будто фиалками; было сыро – на мелком, плотно слежавшемся речном песке следы почти не пропечатывались. На протянувшемся озере под напором ветерка топорщилась седая водная поверхность, у краев беспокойно качался камыш.
Кругом стояло запустенье, как вода, набравшаяся в лунку.
Все восторгались озерным видом, всходили на протянутые по-над озером шириною в две доски мокрые мостки. Они жихались, покачиваясь под ногами. Прошелся также и Кашин по ним: хотя сказочности никакой вокруг не находил, он в конце их положил фанерку на шаткие перильца и, телом загораживая бумагу от косо опускавшегося дождика, отсюда все же стал срисовывать озеро. Карандашом набрасывал выступ этого берега с каким-то дощатым сарайчиком, со вторыми мостками, с лодками, с камышом, с водой и далью.
Сослуживцы оставили его в покое. Но, как было сегодня уже не раз, вскоре он почти физически ощутил неудовлетворенность собой: ему не работалось в полную меру и в радость. «Видимо, влияла праздность», – думал он, с досадой сворачивая рисунок.
В летнем заброшенно-нечистом бараке, в углу столпились наши; на их лица набегали тени неизжитого еще сострадания. На несвежей соломе лежал старенький, заросший больной немец со слезящимися глазами и жалостно стонал. Он был испуган. Нагнувшись, Игнатьева, как врач, уже что-то делала над ним, хоть и никаких медицинских инструментов у нее с собой не было; сквозь жалостливые стоны он лишь просил, чтобы его не трогали и сохранили ему жизнь, так как к нему его дочь должна прийти.
– Was fehtt in nen? – На что вы жалуетесь? – Васильцов склонился над ним.
– Jch leide an einer krankheit. – Я страдаю болезнью, – слабо отвечал лежавший.
Искры жизни будто погасли в его глазах. Тем не менее, Игнатьева и Суренкова установили, что у больного простой грипп. Для него у них нашлись какие-то порошки, и для него положили на солому часть оставшейся еды.
– Видишь, он считает, раз кончено все с Германией, то кончена его жизнь, – сказала Анна Андреевна. – Но дети, которым мы дали хлеба, вероятно, совершенно иначе думают.
– Знать, до этого все на нервах держалось, а теперь расслабилось, и к тому же голодно, – определяла по-своему Анна Андреевна.
А на улице Волков указательным пальцем – жест, который Антон не любил у него, – поманил его извинительно.
– Ну, что у тебя? – Кашин подошел к нему.
Волков, плюнув, выругался:
– И точно он свихнулся – так крутил, когда я спросил об его устройстве на гражданке. Ты знаешь, он заочно переписывается с какой-то дивчиной, от которой случайно попало к нему письмо. И она прислала уже третье. Вот прохиндей какой, – кивал Волков за стволы сосняка, где мелькала ухмылявшаяся загадочно про себя, крупная физиономия старшины Юхниченко, который, нагибаясь, срывал цветки и нюхал, точно пробовал их на вкус своими толстыми губами. – Один врач мне объяснил, что какой-то кислоты не хватает в голове у всех свихнутых.
– Да я о Шаташинском спросил. Уладили с ним?
– Ах это?! Замирились. Я извинился, – сказал сержант виновато.
Еще вчера Антон ничего не понимал в истинном значении поступков Любы. Но сейчас в его душе не находилось осуждений никому, напротив, он по человечески жалел людей, с кем соприкасался. Может, под влиянием этого он вдруг горячечно попросил у Юхниченко, который вышел из-за мокрых обнизанных каплями, кустов:
– Подарите три, пожалуйста! Я прошу…
– А надо собирать, – замявшись, наставительно сказал старшина.
– Кому что, – лихорадочно проговорил Антон и, взяв из его толстых рук четыре весенних желтых цветка, подошел с ними к автобусу. – Люба, прими, – преподнес он ей при всех три цветка. – А один – тебе, Ирочка. У Юхниченко много их. Ты попроси еще.
От неожиданности Люба остановилась, вскинувшимися карими глазами поблагодарила, но вздох свой сдержала и, быстрее юркнув, скрылась в автобусе. А Ира приняла цветок, как должное.
Волков отчего-то улыбался Антону извинительно.
Все садились в автобус, и он заметно осаживался.
Как ни мелок и не редок был дождь, земля все мокрела, темнея и сочнея. Из стоявшего автобуса Антон глядел на куст. От сбегавших капель упруго вздрагивали молодые листья. И точно так же, как под каплями вздрагивал лист, другой, третий, что-то вздрогнула в нем от прилива чувства, похожего, наверное, на ожидание счастья. Отчего оно? И отчего же ему припомнился опять тот прозрачный сон, в котором он будто наяву с ликованием шел вверх по дымчато-росистой траве и, оставляя в поле след, давал себе клятву – полушепотом говорил себе прекрасные слова? Но, собственно, уже кончился, кончился вещий сон: и вне его-то он испытывал то же томительное ожидание счастья, еще совестясь в душе за это.
– Она плачет. Слезы крупные так и льются.
– Кто: собака? – разговаривали женщины в салоне.
– Корова. Подошел к ней сам, обнял ее и сам выплакался с ней.
Автобус уже снова обгонял распланированные коттеджи с возвышающимися коньками.
И больно Антону стало от слова «сам». Что-то сильно сдавило в груди. Чуть нагнувшись, чтобы никто не заметил его смятенного состояния, он перебарывал в себе минутную слабость. Да, война закончилась. А убитые и умершие будут представляться нам всегда точь-в-точь такими же, какими они были загублены. Их не воскресить. И уж не посмотрят они на дальнейшие дела рук человеческих. Что прискорбно: Антон не мог представить себе гибели отца и его последних дум. Отец, простой крестьянин, полуграмотный, бывало, смешно разыгрывал на деревенской сцене отдельные эпизоды. Однажды в сарае был спектакль. Поздней ночью со спектакля они вышли прямо на задворки. Небо было с неизмеримым количеством горевших звезд.
И это таинственно-черное звездное небо всегда вызывало в нем восторг перед чем-то прекрасно-будущем.
«Что же, сбудутся ли мои смутные мечты и желания? Или это будет так далеко, как и до неба, неясного в протяженности своем, а все в мире – так же сильно будет волновать меня, волновать мое воображение?»
Совсем повеселевший Волков положил горячую ладонь на плечо Антону и, сбоку поведя взглядом в его лицо, спросил участливо:
– Ну, что замечтался, дружок? – И он некоторое время не снимал с его плеча тяжелую руку – она была недвижна.
– Будто мама, которая нас спасла, послала меня сюда, – сказал Антон. – И об отце подумалось вдруг. Не уберегся он…
– О, нашему поколению с лихвой хватило всего, – с жаром отозвался Волков. – Одна гражданская война чего стоила – Первой мировой продление… Потом восстановление, потом коллективизация, индустриализация, потом новая – Отечественная – война, оккупация, голод, опять восстановление. Вот теперь демобилизуемся – и тоже засучим рукава…