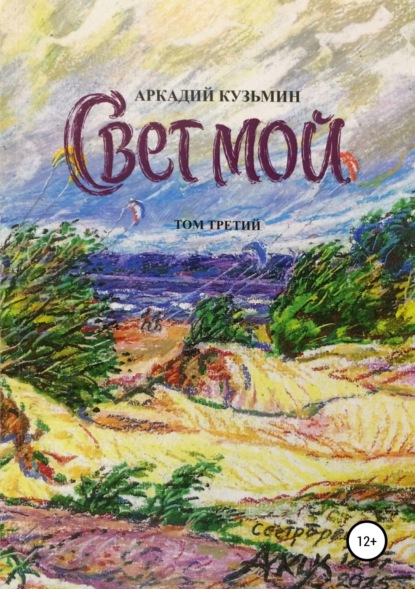По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это даже не чересполосица, а многополосица.
– Какое! Одна непрерывная полоса, – поправил друг. – И даже не полоса, а глубокая борозда, в которую человек попал и уже идет по ней, а та все петляет и петляет бесконечно… Одного из перечисленных мной событий хватило бы на всякого, а тут… – Он махнул рукой. Но тотчас продолжал свои умозаключения: – Значит, как галактики, которые в реке Вселенной есть завихрения (я когда-то увлекался астрономией), так и человек с его жизнью, с его отношением с другими людьми есть поток во времени, и он часто разворачивается стихийно – под воздействием событий. Такова жизнь и матери твоей. Перед нею нужно только преклоняться.
Васильцов рассуждал:
– Да, Берлин, безусловно, останется немецким, как останутся и немцы немцами. Но станут ли они другими?.. Разные правительства будут решать, что им дальше делать; солдаты будут на границах, мосты, как говорится, не сведены… Только точно можно сказать одно: что после этой весны человечеству – дальше жить. С зарубкой в память о случившемся.
И кто-то поддакнул ему раздумчиво:
– И люди станут мотать себе на ус. Вот хватит ли ума?
– Вон уже возвращаются в Пренцлау сбежавшие немецкие семьи, – сказала Игнатьева.
– Везде хорошо, где нас нет, – резюмировала Анна Андреевна.
– Каждый живет своим особым миром, – заговорила опять Коргина. – Вы посадите меня в лучшее кресло – вольтеровское, – я все равно не усижу. Ни за какие коврижки. Я и говорю…
Но Аистов нелюбезно перебил ее:
– Все, все, все. Ты уже высказалась. Ира, спой! – И кивнул Ире, подбадривая ее.
Раскрасневшись, улыбаясь, Ира запела. Суренкова нежданно (она не было певуньей) подхватила за ней песню военного времени и все смелее и сильнее, верно, вкладывая в нее новый смысл.
И Люба, поднимая глаза на всех, зашевелила беззвучно ртом – в такт словам песни. А Саша, насвистывая на этот же мотив, все выжимал скорость. Вжик! Вжик! – проносились взад, отставая, придорожные деревья, и ветерок наполнял и упружил на их светло-зеленых кронах молодую листву.
По дымчато-зеленой, мокро блестевшей равнине Кашин ехал с думой о скором возвращении на родину, с желанием стать дома художником – затем, чтобы обрисовать все, что он увидел самолично. И уж больше никакие сомнения в этом не разбирали его, несмотря на покамест неудачную попытку с зарисовками в Берлине. Неудача как чувствовал, лишь раззадорила его. По-хорошему.
Оглянулся ли он?
Нет, на Берлин он уже не оглянулся.
Да, Антон, как все теперь, конечно же, домой спешил, спешил с желанием учиться художественному мастерству. А пока в свободные часы рисовал, делал наброски, постоянно общаясь с солдатом Тамоновым и выслушивая его профессиональные советы художника, очень помогавшие ему в рисовании. А также с немецкими мальчишками-погодками, с которыми сдружился и которыми почти верховодил, гонялся по улицам Пренцлау. Они нередко наезжали в городской парк – к могилам с нашими спящими солдатами. К сожалению, здесь прибавилось еще несколько могил с цветами.
XX
3 мая все управленцы, погрузившись на автомашины, переехали за Одер, в немецкий городок Пренцлау; поселились в зданиях, свободных пока от жителей-немцев, частично сбежавших на запад.
Тамонову досталась очень светлая и просторная комната: настоящая мастерская с видом на яблоневый сад, вплотную примыкавший к дому; цветущие ветви почти доставали до самых окон третьего этажа, заполняли все пространство крупным белым восковитым цветом; за садом сочно блестели и островерхие красно-черепичные крыши, изгибы угадывавшейся улицы. Уже освоившись в Управлении настолько, что он не нуждался больше в покровительстве Антона, он в приподнято-радостном настроении, порозовевший, обрастал всем необходимым, как художник: красками, бумагой, кистями, склянками, рисунками. Даже обзавелся каким-то примитивным мольбертом, сколоченным кем-то специально для него – поставил его почти посередине комнаты.
Когда же сослуживцы нашли к нему и сюда дорогу – загостили, позируя ему, тем охотнее, что война кончилась и всем хотелось увезти домой память о службе, – Антон нашел его еще суетливее обыкновенного. К тому же он вроде затушевался от чего-то. Похвастался приобретением здешним – прикрепленным к стене небольшим (меньше метра высотой) живописным холстом, который где-то поднял и развернул; изображенный неизвестным современным пейзажистом, желтел на нем уголок неизвестного сада с мокрой серой скамейкой, с опавшей листвой на дорожке. Пейзаж – как натюрморт. Несмотря на пастозную манеру нанесения красок, их созвучие было совершенным. Этот холст отдавал такой пронзительный свежестью, что, казалось, будто натуру выхватил взгляд именно в открытое окно.
Несомненно, находка принадлежала к советской школе живописи, из России – судя по сюжету и подписи. Ведь нацистские оккупанты вывезли из России сотни тысяч произведений искусства и затем часть вывезенных, не успев переправить на Запад, в спешке кидали где попало. Действовали по принципу: «Раз гибнем мы, нацисты, – пусть погибнет и весь свет. Ничего не жалко». Расстреливали же они мирных немецких жителей, в том числе и детей, осмелившихся вывесить белые флаги, уж не говоря о солдатах; затапливали же водой станции метро вместе с укрывшимся в нем берлинским населением…
Накоротке перемолвившись с Антоном соображением насчет картины, которую он высоко оценил, Илья Федорович уже усадил на стул для позирования прачку Машу, полную стыдливую девушку, и занялся ею целиком; предупредительный и более чем любезный, он почтительно и в волнении срисовывал ее и одновременно беседовал с нею, точно с королевной. Она мило, кротко отвечала ему, взволнованная тоже.
Все чаще и чаще Антон заставал у него Машу, которой он много всего рассказывал – необыкновенного и диковинного, как видно было по ее разгоряченному лицу, распахнутым правдивым глазам. Должно быть, они становились очень хорошими друзьями. Она наводила чистоту и порядок в его помещении, меняла ему воду, мыла его банки, стирала белье. Что-то общее сближало их: возможно, их почти детская доброта и чистота чувств. Вследствие этого сближения – все подметили – он даже изменился в том, что стал уже явно меньше помнить о других своих посетителях. Над чем весело-незлобливо посмеивались меж собой говоруны, находившие всегда причину обратить на что-нибудь свое внимание и поязвить немножко, если можно. Отчего ж не поязвить?
За несколько недель Маша как и появилась незаметно, так и исчезла из поля зрения всех: ее перевели в госпиталь. Илья Федорович сильно заскучал по ней, задумчиво (чего не бывало прежде) печалился о ней – все-таки она была для него лучшим благодарным собеседником: необыкновенно мило, с редким сочувствием и переживаниеь, слушала и слышала его. И он несомненно успел привязаться к такому понятливому существу. Она стала ему дорога.
Тут-то Сторошук и другие ребята решили разыграть его: исхитрились словесно создать фантастическую легенду специально для него; они как бы неохотно, ненароком обронили при нем (чтобы дошло до его ушей), что-де уехала Маша, слышали, вовсе не случайно, так как она будто бы ждет ребенка. От него. Бедный Илья Федорович! Он, кажется, и мало веря версии, и чувствуя в их словах, может быть, подвох, взволновался, главное от того, что Маша, если такое говорят о ней, может вследствие чего-нибудь подумать о нем плохо. Антона поразило истолкование им всего по-своему. В том было какое-то противоречие. Но, присутствуя при сем, он уже не мог ни разубедить, ни убедить Тамонова в ином, несмотря на то, что тот обращался к нему с робкой надеждой во взгляде, испрашивая им, справедливо ли сказанное ему насмешками. Шутники не могли оскорбить его прямой правдой, а действовали с намеками и недомолвками, что придавало их словам вес кажущегося правдоподобия. И для пущей достоверности попросили Антона быть лояльным – не мешать им. Справедливо, однако, считая, что Илья Федорович прекрасно и сам должен все понять, разобраться во всем. Антон лишь пожимал плечами; мол, не в курсе событий. Действительно, не подыгрывал – был покамест далек от проявления интереса к интимной близости взрослых людей.
– Но я ведь не отказываюсь от нее и ребенка, чей бы он ни был, если появится на свет, – казнился Тамонов. Он мучился не от того, что могло произойти подобное, а от того, что окружающие могли истолковать неправильно его поступок, могли подумать о нем худо, неверно.
Поразительно, как он, сложившийся мужчина, интеллигент, хваставшийся знанием женской психологии, так легковерно принял наговор и даже не защищался нисколько, принимая это как должное – просто свалившуюся на него кару небесную. И Антон уже не успел, как хотел, разубедить его в напрасности навета. Ибо Тамонова вскорости срочно откомандировали в госпиталь, руководимый видным военным хирургом: здесь собранная группа художников готовила красочные плакаты о боевом пути госпиталей, а также альбомы с рисунками медицинских операций, инструментов, схемами и фотографиями.
Антон, как и прежде, помимо служебных дел и поручений продолжал натурные наброски и наносил сухой кистью на больших полотнах портреты известных маршалов и героев: ими уже украсили удачно клубное помещение.
Однако же он скучал без Ильи Федоровича. На сердце было неспокойно.
Увидел его по истечении полутора недель – Илья Федорович прикатил на пару дней. Первым делом Антон зауверил его не беспокоиться из-за тех дурацких рассказней шутников, а он с затаенной верой выпытывал, не объявлялась ли Маша снова здесь, в Управлении. Видимо, он уже ни за что не хотел отрешиться от внушенной им самим готовности к чему-то бесповоротному. И, точно открываясь, наконец, он тем охотнее пояснил:
– Знаете, Антон, в Маше есть что-то схожее с Олей, о которой как-то говорил.
– И не договорили еще, – подхватил Антон.
– А знаете, как я тогда поближе познакомился с одной личностью? Я не рассказывал?
– Нет-нет, Илья Федорович.
– О, это весьма существенно. Личность оказалась любопытная. Я вкратце вам расскажу… Не обессудьте…
– Илья Федорович, вы опять на «Вы» со мной… Это не годится. Совестно…
– Нет, постойте ради бога! Что же, Сторошук ушел?
– Притом незамечено…
– Отчего же он покинул деликатно нас? На английский манер… Не знаете, Антон? Оттого, что я о Маше помянул?
– Может быть. Но он все-таки стреляный воробей.
– Тогда великодушно простите меня, голубчик мой. Я думал, что для вас двоих стараюсь. Он же сидел за моей спиной, а я все на вас поглядывал…
– Ну, опять на «Вас»… Побойтесь бога! Сжальтесь надо мной!..
Тамонов умоляюще прижал руку к груди.
– Глянул назад – его нет. А был. И то-то громко, теперь чувствую, говорил. Неправда ли? Сказывается, видно, то, что давно не виделись. Не забыть бы. Я про личность интересную начал… Так ведь?..
– Было: собирались рассказать.
Он сидел, сощуривая глаза и уперев руку в бок, как глубокий старик, и о чем-то мучительно раздумывал, прежде чем проговорил будто сам с собой:
– Итак, хорошо было то, что после всего случившегося, я его видел, знал, как на ладони.– Он вытянул ладонь с цепкими пальцами и повернул ее кверху, точно взвешивал на ней что-то. Ведь мы были двое истинных друзей. И сдружились настолько крепко, близко, что знающе уже путали нас по именам. А друг-то по своей комплекции вдвое крупнее меня… Но, выходит, всякое бывает у людей. Вот этот-то друг-товарищ в одночасье и околдовал мою Оленьку. Представь, решил, что мне некогда заниматься свиданьями. Тогда я иллюстрировал один сборник рассказов. Изобразительного материала по зарубежным странам, особенно по скандинавским, под рукою нет, не подсмотришь в Эрмитаже и не выищешь сразу в Публичной библиотеке. Все сроки же сдачи рукописи, как бывает, уже горели ярким пламенем (с рисунками предыдущий иллюстратор не справился – и отдали все мне), и я направился к писателю-переводчику этих норвежских, кажись, рассказов, чтобы уточнить, какую одежду носили герои. Важно для иллюстратора – предельно следовать во всех деталях достоверности и историчности. И то, что писатель чистосердечно сказал, меня очень позабавило. «Бог ты мой, а я и сам не знаю толком. Да и кого это может интересовать по-серьезному? Нарисуйте, что взбредет на ум». Но характер нарядов я все-таки уточнил по мере возможности. А где и свой автопортрет изобразил. Ну, и кое-какие рисунки удались, похвалюсь. Штук двадцать пять. Художественный редактор Иван Иванович чуть не погубил все. Придешь, а он вечно разбирает шахматные партии, или просто гоняет в шахматы, или косой (выпить любил), или о рыбалке мечтает.
– «Посмотри, Иван Иванович…» – «Давай, показывай»… – «Да что я буду совать под нос: вы ведь играете…» – «Ну, и не суй, если дрянь, вижу»… – «Это совсем невежливо с вашей стороны…» Заспоримся, как всегда… Ну, и над рисунками застрял. Разумеется, все – бегом. Мельком лица видел… Как в тумане… Случайно наткнулся на Оленьку возле сквера, всю светившуюся радостью встречи – стояла рядом с красавцем – говоруном Нефедовым… Тот назначал ей свидания… петушился для чего-то… Я обошел их ради приличия. Ровно препятствие…
– А где же они познакомились? – спросил Антон. – Вы не сказали.