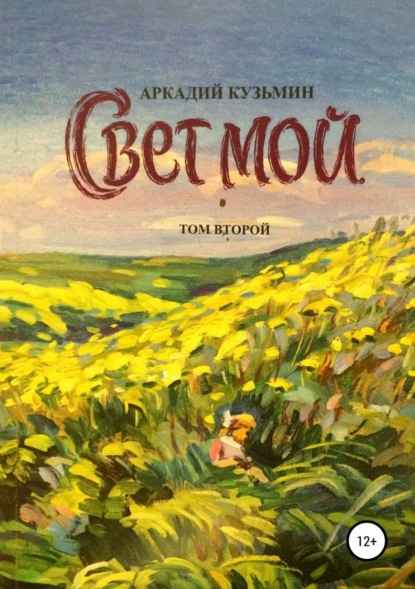По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Точно. И я не знаю ничего про своих. Где-то потерялись.
И Анна уже успокоила задумчивого бойца:
– Я вот тоже жду от суженого своего вестей. Не знаю, что-то будет. Он, муж, приходил ко мне сегодня во сне, в праздничной рубашке, а только быстро ушел – меня не подождал. Куда? Странный сон какой-то. И шестнадцатилетнего сына моего угнал с лагерем немец.
– Во всем есть начало и конец, – философски заметил боец. – На том свет держится.
– Многие наши бабы сгоряча ведь так рассуждают: «Конечно, что Анна? – говорила она про себя. – Анна все переживает: у нее ведь много ребят». Мне прямо в лицо так говорили уже не единожды.
– Не давши слово – крепись, а давши – держись. Сколько ж у тебя их?
– Шестеро.
–Благое дело сделала. Зачтется. Все зачтется. Бог труд любит. Не имеешь золота – бей большим молотком.
– Известно, служивый, – согласилась Анна. Ей стало сразу легко как-то разговаривать с ним. – Теперь хоть самолеты не пролетывают над нами покамест, не зудят. Нечего уже крушить. Все запустошилось. И тот же огород мой, и хозяйство. Вон все опилено. В наших деревнях прежде было в обычае выгонять скот в поле в первый раз после зимы не ранее 23 апреля (церковный праздник Святого Георгия Победоносцева). А нам и выгнать теперь некого, разве только кошку. Ни кола, ни двора, ни курицы. Все разорили доверенные слуги дьявола.
– Но ведь жалобу не подашь на войну и Гитлера, верно?
– Какое!
– Слышал я, мамаша, – заговорил солдат проникновенней, – что строители уже такие ходят – направили наши власти; они бесплатно строят дома в освобожденных районах тем, кто лишился крова, – семьям военнослужащих. Так что должны и вам помочь – поставить избенку. В первую очередь.
– Да? Это точно?
– Точно, точно, мамаша. Поверь, я не брешу… Не брехун.
И Анна покраснела, улыбнувшись, – оттого, что он называл ее мамашей, ее, свою однолетку, может быть: ведь ей всего сорок два года. Неужели она так состарилась на лицо? Может, просто черный платок старит ее?
Но это сообщение бойца ее обрадовало сильно: семье-то позарез нужна своя избенка, чтобы обживаться по-настоящему. Сколько ж мыкаться так, ежедневные попреки бабки выслушивать? Было б тогда много легче, конечно…
– Ну, спасибо вам на добром слове, служивый! – поблагодарила Анна.
– На здоровьичко, мамаша! Не тужи. Все к лучшему идет. Нужда перетерпится, забудется.
– Ой ли! – покачала она головой отрицательно. – У нас нужда скачет, нужда плачет, нужда песенки поет. – Заметила, что какой-то серенький паучок – крохотный комочек – нацепился к ней на рукав куртки, полз по нему. И в душе ее всплеснулось тотчас: «Неужели мне какое-то письмо будет?» Как сельская жительница, она верила в некоторые приметы, проверила их и уже примерилась к ним.
– Мама, подойди сюда, прошу! – позвал ее делавший политинформацию сержант и попросил:
– Расскажите им, сыновьям, за что они воюют.
– Ну это-то они, наверно, знают получше моего. – Она замялась, застеснялась, подойдя поближе – к самому кружку сидевших солдат. Потом воодушевилась сильно: – Думайте о ваших матерях, братьях, сестрах… Мать я шестерых детей… Здесь стоял мой дом, росли березы. Теперь – ничего, погублено все ворогом. И еще что вам скажу: мой муж и мои ребята прежде работали без выходных, не бездельничали. Кто ж бездельем людей наказывает? Особенно нынче, когда рабочих рук недохватает? Так что я прошу (передайте командиру вашему) выпустить тех двух солдат, каких в мою землянку посадили. От безделья ведь на стену полезешь…
Бойцы дружно зашумели, засмеялись. А узбек в восхищении даже сказал:
– Ай да наша мама! – заблестел глазами.
И уж вспомнила она главное, зачем она было пошла да и вернулась ни с чем. Голова что решето стала у нее: ничегошеньки в ней не держится. Памяти никакой. Абсолютно. Сказать кому – не поверят люди ведь…
VII
Наташа не была настолько самонадеянной дочерью, став почтальоншей из-за только благих намерений, чтобы как-то вовремя отвести или смягчить, в случае недоброго извещения об отце – удар от матери; она просто надеялась управиться как можно лучше с чувствами своими, только лишь, и тогда все образуется само собой. Но когда такое извещение – какое-то чужое и тяжелое – она получила именно на свое имя и с удивлением прочитала его прямо на почте и не сразу могла понять его и когда сквозь тяжелую холодность его поняла смысл дошедших до нее слов, извещавших ее непосредственно из Москвы, (куда она, разыскивая отца, писала запрос о нем, красноармейце), что ркасноармеец Кашин Василий Федорович, 1897 года рождения, пропал без вести, – она сама растерялась ужасно и с почти дрожью без оглядки прошумела от почты домой – целых пять километров, и боялась теперь одной своей растерянностью не угробить мать.
Ей не хватало, значит, выдержки, хладнокровия – все в ней поднялось; ей не хватало еще необходимого жизненного опыта, да это и не нужно было ей скрывать. Будет она, как может, утешать и уговаривать мать еще надеяться на что-то…
Все было очень просто. Антон, войдя в избу, застал их плачущими в уголке. Все повторялось вновь. Мать повернула к нему свое несчастное лицо и сказала убитым голосом:
– Сынок, ваш отец без вести пропал… Вот извещение… О, горе! О-о!
И он не закричал, как и в июльский голубой день – день провода отца на фронт, будто в нем что заморозилось опять и оттого он еще больше почувствовал себя виноватым перед ним, перед всеми.
Что существенное мог он сказать нынче матери, чтоб ее утешить? Ничто.
«Наш отец, – подумал он, – перед наукой благоговел, любил что-нибудь конструировать, любил возиться с инструментами, любил напевать «ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой». И как… жуткой болью пронзает мои жилы: пропал без вести?! Разве это можно?!»
– Нет, помните, летучую мышь, запорхавшую ночью в нашей кухне? – всхлипывала горько Анна. – Это была предвестница его гибели. Наверняка. Он еще тогда, наверное, погиб. Я-то предчувствовала. Себе места не находила… Вот и серенький паучок сегодня сполз ко мне – напророчил мне дурное известие… Мое сердце чуяло…
Антон же, даже видя и испытывая все бесконечные ужасы этой войны, представлял себе отца не иначе, как павшим где-то в каком-то сражении, а не пропавшим без вести. Но оттого не меньше чувствовал себя беспомощным. Сколько не горюй, не восполнима утрата и горе неутишимо, и только дело помогло бы людям пережить то, что их постигло.
Для Анны, хотя она тоже не верила до конца, что Василий погиб, распалась какая-то стойкая связь со временем, поэтому порой она с трудом понимала, что происходило вокруг нее. Она словно видела повсюду льдистые глаза действительности, как у того фашистского конвоира на скользком и холодном февральском большаке.
Отчего ж все сделалось так? Страдали они, люди, по убитым, искали их следы, могилки и сами исстрадались (ой!), из могил воротились и еще ходили с осколками и пулями в теле и ранами, и страдали их дети, а они страдали еще из-за них. Было ясно: невосполнима утрата и горе неутешимо, и только дело, дело – вечный излечиватель всех людей – помогло бы пережить то, что их постигло; было ясно, что не накликала беда, а все, что было людьми сделано и где-то на заводе отточен и приделан винтик, сработало чисто, как срабатывает боек, вставленный в механизм снаряда. Кто же виноват в том?
В детстве у Анны была одна такая игра: найди то, чего не знаю сам. Но военщики-то, известно, ищут в войнах поживу в обмен на смерть миллионов бедняг. И это-то посягновение на их священную жизнь и глумление над ними, мечущихся между загоном и буржуазным законом, вечно паразитирующий класс богачей еще с пафосом именует «демократически свободным выбором»! Такие есть фарисейские выверты.
А вслед за тем с сожалением и разочарованием, узнала и Маша печальное: что также и от нее отвратилась всплеснувшаяся было в ней надежда перед неизбежной своей кончинушкой повидаться с мужем Константином, воевавшим в полном по сю пору здравии, заговоренном ее любовью. Почтовая переписка у ней с ним возобновилась вновь благодаря тому, что ему дала знать о ней, ее теперешнем местонахождении, ее находившаяся в эвакуации в тылу сестра Зоя, которая переписывалась с ним в течение этих полутора лет. Напоследок Маше не повезло на самую малость; в письме своем из действующей армии он ладным мелким почерком – точно строчкой прошивал – уведомлял ее с грустью о том, что не сможет приехать к ней ни на день, ни на час, дабы свидеться с нею; командиры его не отпускают: каждый солдат на учете – тяжеленные бои в разгаре, и нужно не только не отступать теперь, а только наступать и наступать, чтобы высвободить больше советских семей из фашистской неволи. Такая на них, солдатах, задача возложена.
И уже не имели для нее никакого прежнего смысла и значения ни его приветы, здравствующие, посылаемые всем, и ни его слова утешения, обращенные к ней, своей подруге: все это отмерло, прошло через нее куда-то дальше. Словно в бездонную пропасть пало… Осыпалось легохонько… И был иной простор для нее и вокруг нее – непостижимый, вероятно, для других, еще живущих – со своими интересами.
Да, в мире никак не бывает того так, как что-то иной раз кажется или желается нам; все ведь делается – производится не по божьему велению, а людьми самими – и порой с невиданными усилиями и терпением, и смирением перед долгом и обязанностями. Сколько ж и как трепетно все ждали часа своего освобождения! Ожидание его не затухало в сознании людей ни на мгновение. Но оно пришло все-таки. Наперекор всему. И к другим еще придет рано или поздно. Не ко всем одновременно. Многие-то уже не дождутся его. Или дождутся, подобно Маше, лишь для того, чтобы измучившись, представиться в более спокойной обстановке. И то ладно: утешение большое. Кому как повезет; кого как судьба призреет, осчастливит.
Маша нередко, лежа в своем полузабывчиво-дремливом закутке, где она видела теперь перед собой, или в своем сознании, видела зримо бесконечно тянущиеся театрализованные кружения – действия каких-то лиц во всем том, чем и она жила и дышала до этого и что было очень похоже на действительность, только уже мало ее затрагивавшую, – Маша, в минуты, когда возле нее никого не оказывалось и действие толпы затихало, ловила-перехватывала крамольно-любопытствующие и какие-то почти полоумные взгляды бабки Степаниды, нацеленные на нее с печи, куда со старушечьим кряхтеньем и надтреснутым пришептыванием-ворчанием вполголоса бабка забиралась и где – на пригретом кирпичном своде – отлеживалась дольше и чаще кошки: грела свои дряблые кости. И Маше было непонятно, зачем еще та жила и цеплялась так усиленно за жизнь, извратив своим существованием самое ее понятие. Она-то теперь знала с радостью почти, что этого с ней уже не случится. И так, видно, лучше, лучше.
Иногда же будто с сочувствующим любопытством на нее заглядывали исподлобья снизу, оборачиваясь, и эти театрально, казалось ей, хороводившиеся в полутьме ее сознания лица, и они не осуждали ее за отступничество от них – у каждого свое предназначение.
Отстукивали и отстукивали время ходики. С чуть слышным, говорившим об их изношенности, скрипом.
VIII
Прошло больше месяца. С погодой неустойчивой. Уж был апрель.
Что почти невероятно, но для всех естественно, сызнова к делам колхозным приступали; для начала же вновь образованным правлением планировалось яровую рожь посеять, чтобы заложить основу получения хотя бы небольшого урожая зерна, – из семян, выделенных для этой цели государством и доставленных для распределения в освобожденные деревни. Кто как будет пахать и сеять в полях, когда в хозяйстве на шестьдесят примерно семейств не осталось ни единой животинки, кроме кошек, не то, что рабочей лошади, никто еще не знал; но люди ничему уже не удивлялись – они принимали все, как есть, должным образом и верили, что так именно и нужно.
Семенная рожь была прислана сюда откуда-то из-за Волги – с Калининского направления; но ее почему-то не довезли до самого Ржева – доставили только до станции Есиповская, что в верстах десяти от него. По-видимому, попросту не было в городе подготовленного складского помещения для приемки и сохранения ценных семян. Нечем было также подвезти их на место назначения. Ведь не один колхоз Ромашино бедствовал так – на все колхозы в округе разнаряживался семенной фонд. Так что трем десяткам женщин и подростков, собравшимся с исправными, без дырок, крепкими мешками и едой на обед, около крыльца избы Бекреевой Катерины предстоял совсем нелегкий путь на эту станцию Есиповская, – за рожью для очень важного нынешнего посева.
Едва еще серело туманное, дождливо-промокшее утро. В глубине крыльца приглушенно журчал несколько приподнятый, как будто подбадривавший сам себя голос Миронова, председателя, который командовал сбором людей. И Антон и Саша пришли сюда также с мешками вместе с тетей Дуней и тетей Пелагеей.
Грязь хлюпала, чавкала под ногами десятков людей, которые с зерном за плечами плелись гуськом, придерживаясь железной дороги, где легче было идти – посуше было. Вблизи Кашиных и Пелагеи шедший Семен Голихин зарассуждал, что не каждому привычно вскинуть трех-четырехпудовый мешок зерна на плечи и нести – это очень тяжело. Вот Василий Кашин это мог. Он все мог, – пускал Голихин туман. И Саше и Антону это было приятно и неприятно – слышать такие лицемерные слова. Для чего же только они были сказаны сейчас?