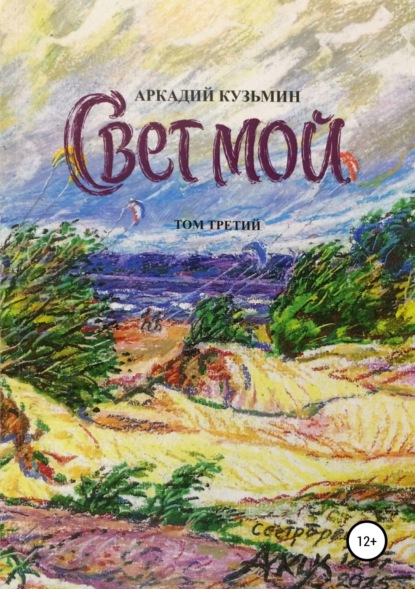По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И ты ему ничего не сказала? – спросила Полина.
– Ну, что я скажу? Пожала плечами – и повернулась к выходу.
– Ну и зря спустила…
– За то, наверное, таких людей – работничков помахивал Василий мой.
Так на том и кончилось ее, Анны, замужество, кончилось без почестей, наград и памятников – обычная история.
– Я вот о чем хочу поговорить с тобой, Аннушка, – приглушенно между тем сказала Поля, наклоняясь поближе к Анне. – Ты уж извини, не бросай мою мать, хоть она и сильно досадила тебе, – ты терпеливая, я знаю, да и сына не оставь, если что…
Анна тихо ахнула, раскрыв рот и прикрыв его рукой:
– Что ты, что ты, Полюшка, родимая… Может это тебе показалось так?
Вроде б она не случайно тогда, при угоне, на большаке смерти себе желала: то вновь повторилось; даже не желала она ее, а просто исживала, с достоинством могла встретить ее.
– Не, я знаю, Аннушка… Точно знаю…
– Ты хочешь сказать: скрипучее дерево больше живет? Что я всех переживу?
– Что ты! Я скажу тебе, что нас закалила жизнь. Но за нее-то ты плати когда-нибудь. Плати и… не греши…
В золовке было что-то от брата Василия. Теперь Анна могла лишиться своей последней опоры. Это было бы ударом для нее.
Отчего же можно умереть в полжизни? В самом расцвете лет своих. Все – причина и следствие. Женщина эта, как никто, все принимала близко к сердцу своему, болела, голодала, тащила все физически; и она прошла через такую жизнь во время немецкой оккупации – с игрой смерти… под дулом пистолета или карабина. Отчего ж еще ей умереть? Она как дерево была – крепкая. Сухопарая. С ухваткой мужичьей и бесстрашием, точно воин. И все тянула, тянула на себе.
«Печально, – думала Анна. – И кому ж она передаст жар сердца своего?»
И словно в подтверждение ее мысли Поля сказала, что жаль: не воспитала сына как следует. Сказала дальше:
– Пальцы сводит. Как понервничаю.
– Господи!
– Их вывертывает у меня. У-у! Руки отключаются, и все.
– Так что же: спазмы сосудов?
– Сердце… Колит, как иголками. И вот оттираю их. Не знаю… Наверное, ревматизм тоже… Все время от плеча правая рука болит. Сейчас на работах почувствовала.
– Может, от копки этой?
– От выселения эта заработала в наследство. А может, оно и раньше было, да прибавилось что-то еще… Кто знает.
Мимо шел куда-то Голихин. Как ни в чем не бывало, не помня ничего из старого, поздоровался, спросил:
– Две кумушки сидите и судачите?
– Ишь заважничал как: устроился на заработки на железную дорогу.
– Что? – переспросила Полина.
– Я говорю: две кумушки сидите – и судачите себе?
Ни Анна, ни Полина уже не ответили ему, занятые таким важным разговором друг с дружкой.
И самим существованием их ныне.
II
Они вынесли уже и тяжесть первоначального восстановления колхозного хозяйства.
Обязательная копка земли вместе с обработкой ее вручную, хотя все от мала до велика и втянулись уже в нее, изматывала до предела возможного – нету сил. Намахаешься, накидаешься и накланяешься за день – о-о! Гудят, ломят спина, плечи, руки, ноги – не разогнуться всласть; ладони – в мозолях сплошных от лопаты, пальцы загрубели, что наждачные стали; в глазах красные круги плывут, жучки прыгают; горят лица, накаленные земным паром, – нечем смазать их, чтобы защитить их от горения; побаливал живот – от того, что надрывались, и от пищи худой, отрубной. А дома – что? – еще свой план вскапывали, сажали картошку, свеклу (откуда-то семян понавезли – мешками), капустную рассаду, рожь посеяли. И Анна, Дуня, Поля ждали-считали дни, когда подымется зеленая ботва, чтобы ее можно было в варево пустить. Для подспорья.
– Бедненькие, до того устали вы, – сжаливалась Анна, как всегда, около своих, наработавшихся ребят, с готовностью подхватиться и бежать куда-то для того, чтобы сделать для них что-нибудь облегчительное. И когда ж только обзаведется колхоз лошадьми да тракторами? Будет же, наверное, возвращено что-то за тот колхозный скот, что был эвакуирован тогда, в сорок первом? Ненароком вы не слышали?
Саша только засмеялся:
– Мама, тебе бы председателем самим работать – не пойдешь? Все ты знаешь!
– Ну, так это, небось, каждому известно. – Анна не обиделась. – Для того же скот эвакуировали: возврат должен быть какой-нибудь. Так тяжело!
«Да, видно, назло это все, – подумала она, уверовываясь уж в закономерности всего происходящего. – Как мне говорил боец пребойкий, хоть и чахлый: «Да ты даже и внимания на себя не оборачивай, все норови – на других, в том кроется истинный смысл жизни. Другим еще тяжелее, чем тебе, учти; об этом нужно думать денно-нощно – тогда станет легче всем. Тяжести поровну разделятся, как и кусок хлеба. А мы, родненькая, всех переживем, что ты! Вон мое сердце с двадцать седьмого, нет, раньше – с двадцать шестого года, уже бьется-бьется, как мышь пойманная, а я все живу; представь себе, я еще не брыкнулся долой с катушек – прыгаю. Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось. Дружно – хвори одолеешь все».
Анна только и сказала ему, что у нее в двадцать шестом году первяшка – дочка Наталья – родилась и что с тех пор она была занята детьми. Бессменно при них. Никуда не отлучалась. Ни на фронт, ни в тыл. Увольнительных никто ей не давал.
Часто моргая глазами, Полина сказала, что взялись они вчетвером – три площадки там, за выгоном, и мотанули. Чуть пробороновали.
– Я, пожалуй, сделаю плужок самоходный, похвастался Саша. – Чтобы он пахал.
– Как ты сделаешь? – спросила Анна. – Какой умный!
– Не бери меня на пони, мам. Моторчик и колесики прилажу – будет люкс.
– Ну-у, какой ты шустрый, погляжу. Надо б раньше делать – не ломалась бы.
– А что, строил же наш батька всякие-превсякие такие механизмы и приспособления, и даже круподерки, мельницы…
Все: слетела с его языка растрава матери; сейчас тенью на нее хмурь опять найдет – вспомнится ей он, а также то, что с ним. Антон испугался за нее и чтоб заговорить ее – перебивчиво проговорил, как кидаясь в омут:
– Фу-у, мне жарко!
Тетя Дуня подхватила понимающе, хотя и сама была в переживаниях – не было ей слышно ничего о Станиславе, сообщений о нем никаких.
– Ну, жар костей не ломит.
– И кости наломало тоже, – сказал Антон дальше. Преготовно.