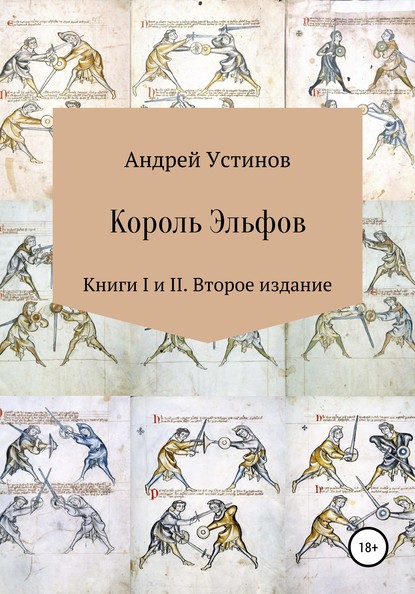По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Король эльфов. Книги I и II. Второе издание
Автор
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
6
И вот вам еще воспоминание – о самом конце моих мальчишечьих дней и путешествии к эльфам, одно из любимейших. Ибо оно – как клубок, пристроенный когда-то на притолоку над широким камином. Но махнешь невзначай рукой, заденешь перстом, и спрыгнет ловко, и раскатится через все двери – оп-ля-ля! – и ты не свершившийся человек уже, а снова тот юнец безоглядный, цирковой канатоходец, что бежит-бежит по ниточке жизни и не остановится никогда!
И если кто-то скажет, что больно уж староречен я, что идеализирую эльфов и их патриархальный быт в этих сценках, так, наверное, да – и даже наверняка да! Потому что воспоминание – это вам не быль, но как бы волшебное величительное стекло, что оживляет только самые пристрастные и яркие моменты, да и не по-бывшему оживляет, а по-преувеличенному, иногда смешно, а иной раз грустно. И каждое словцо живет и дышит, будто храбрый светлячок, и история моя – будто низка тех живых самоцветов, волшебное созвездие на незнакомом вам небе.
Под кустами еще плотнился снег, но между талыми комьями уже выглядывали галантусы, а дальше по холму вся-вся проталина под соснами трепеталась их белыми трелистными головками. Ах! И хотя ликейонские мудрецы три года внушали нам ГЛАХОВОСХОДСТВО над эльфийской простотой, но казалось моей забывчивой душе: весь день был как сияющий Храм и накакой другой не нужен. Рыжие корабельные стволы уходили в голубой эфир, где солнце веселилось в мягких ветках, как белая рухоптица из кормилицевых сказаний, а певчая мелюзга (ах! заметил радужных скворцов и хохлатого жаворонка) мельтешилась по сырому подлеску, любопытничая круже всадника (меня). Алтей фырчал на ленивых весенних мух, бодро чавкал копытами по снежной каше в ручейцах и даже порывался галопить в обсохшую горку.
Как будто – да, даже Алтей затомился в радужном Фанумском вечнолетии и был рад-радешенек-рад-радешенек-рад-радешенек (вот тут галоп!) выскочить с хозяином в недельное путешествие. А что уж рассказничать обо мне! По соловьиное горло сыт был баснями-лекциями по простым и чудодейным живностям, обычностям их и голосам, – казалось мне, Элизер был рассеян и бесполезен в примерах: ладно хищники, но вот кому станется с лисами-летягами о погоде щебетать?! Но надо отдать старику должное: когда взмахивал расшитым рукавом халата, когда вылетало из-за широкого обшлага белокрылое заклинание и раскруживалось белесым туманом, то звери все и птицы, попавшиеся в волшебное облако, не то что говорить, а и смотреть на меня начинали по-человечьи, кто исподлобья, а кто и с насмешливым прищуром!
По правде, когда покинул Фанум, и на волшевейной заимке (где тисовая роща двоилась в глазах посвященных, раздражая взор ярковечными ягодами, и где гурьбились шедшие к Элизеру крестьяне, коим благодатный маг являлся будто из воздуха)… на волшевейной заимке встретил Летту, раздавававшую лечебные травницы от весенней хворобы, и она толь сухо кивнула, что же! Я и не расстроился, потому что – неделя! една неделя! – и служба Элизеру закончится (обещал-таки!), и вернусь я толь затем, чтобы обнять ее и стреножить шелковой лентой (ах, по коголанскому обычаю!) и увезти в золотую долину счастья! И какой для нее будет сюрприз, и как понесемся в наши теплые луга и будем любиться-любиться-любиться, пока Алтей с Белкой не вернутся будить нас теплыми шершавыми языками! Ах, свобода! От бессмысленных упражневаний, от обидных предсказанных проигрышей, от пряного запахом Элизерова любомудрия, до того повсеместнодневного, тьфу, что уже хотелось самому нестись бездумным галопом куда подальше!
Сейчас я выехал на косогор и – ох, красотища! Сосны заканчивались, и ниже к дальней пойме, еще несуразно черно-белой, плавно бежали меж хохлами кустов блесткие ручьи, будто вся сказочная борница летела куда-то по воздуху, теряя назади серебринки из волос! Левчее где-то, за высоким лысоватым холмом, топталась Метара с ее блошиным рынком, черным герцогом и мерой солдат, охраняющих все сие ничтожество – жалкий лоскутец у моря! – но здесь уже (а всего-то ходу три поприща!) – ни дымка, ни сторожки: никто не боронил девственные холмы огородными уступами, не топтал вялые прошлогодние пажити козьими сгонами; может быть, следопытственные наряды забредали в охоте на разъевшегося волка, да разве только к лету. Направче же – разбегались и вовсе неизвестные земли…
Так! Алтей застоялся знамо – запрядал ушицами и запереступал бойко на стылом поветрии, но надость бысть воспомнить картинции! Элизер как-то увещивал, что земля ижет форму яблока – я-то с ним не спорил, хотя в ликейоне профессора до плевков доходили! Большинство доказывало форму пшенной лепешки… или же детского хлебного катышка? А в чем вот разница простому служителю? Знает и груденец необсохлый – как Глаху угодилось, так и вылепил из звездного песка, и воскрепил божьей слюнцою своей, и выдохом животным окутал слепой наш комец туманом бытия! Но потому карты Элизера не плоскостопились, а как бы воскругленными плитками облегали знатное приплюснутое яблоко, парящее в углу учительской: над двумя третями земель там томился молочный туман, как бы тучи, препятствующие сокольему зрению… Но были неплохо начертаны, ах, и горственный Коголан, и плескучее зыбью Неморье, и треуголое пятнышко Метары. И надо было земственное яблоко вращать легчайшим касанием и там, где любезно, на пластину мягко принажать, и карта вдруже волшебно увеличивалась, так что можилось и к Раваху кичливому в замок заглянуть!!! Ну и – речушки все окружные были наметаны серебром, а где будто поистерлось с виду – то пересохлые… Ах, хитро!
Ах! В щеку мне с разлету вперился какой-то стервец, слепенец ли ранний! Теперь уже и я заерзал, потеряв мечтательность. Вот что: скудная пойма напереди – должно бы, Скребец-ручей, ибо, когда жара летняя, даже после ливней обильных капли будто еле скребутся по нему. Старый, можно сказать, друг, ибо растекался в болотце возле лагерного нашего поста, где было нам со Щербой так хорошо когда-то! Ах!.. Ну как же вот – дружились что братья, а теперь только белы кости, небось, обглоданные грачами? Я пощурился на белое солнце – светило будто ярится слезно? А слепенец зудный так и кружит по солнцу, так и кружит, а тоже Глахово созданье! Ах, вот и пойми божьи пути!
Ну так… как бы продолжая Елизеров урок: Скребец втекает в Подкаменную Невицу, что потому подкаменная, ибо с чуждого берега – крутные утесы всю ее длинь, и вот у слияния со Скребцом за бесчетные века выдолбили местные жители что-то вроде умученного подъема, за которным (уф!) сразу раскидывалась Авента. А мне-то, посланнику Элизерову, Гаэлю-из-Франкии, ныне путь-дорога прямее – где-то перебрести Скребец, и выше одолеться в горы, к Забытному озеру, откуда и Невица-бобылиха каплится в Метару и сестра ее, могучая Авица, плещет все приданные воды на мужнюю сторону кряжа, орошая всю благородную Авенту и отдавая аже девичье имя свое. А там у озера – а почему Забытного? Элизер не сказал! – эльфийская святошница, какая-то эльфийская свадьба, язычьи неглаховы обряды, но вот послал Елизер как последний мой урок – ну так что же! Неделя-то всего!
И мнился было дать Алтею пятошного шенкеля, да тот молодец уже почуял, може по грудному вздоху, може по легкому всплеску узды, и понесся самовольно чуток ошую, где вдоль ручьеца вытаял снег и рыжел прошлогодний бурьян – понесся безрассудно под склон, только за луку цепляйся белыми напряжными пальцами! да и что? Разве не сам-я-Гаэль-Франк чуть не пел и не кричал оглашенно на всю горницу окрестную? Ибо был я один-царь горы тут и потому веселился, абы Глах, когда по радуге вниз несется:
– Эге-гей! Охо! Глаховы эльфы! Давай-й! Леее-т-тааа! Неде-елица! Я скоро вернусь! Охо! Эге-гей!…
Ах!..
Солнце, однако, все круче скатывалось в западный дол: хотя и рубило еще ярчеливо, высвечивая задирающиеся выше перелески, но боле не грело. Против свербящего голода и жажды привала, что по Алтееву фырку явно слышилось, дорысили все же до Скребца (хоть водица!) на бивуак… Уфф! Напились! Даже брызнул пригорошню Алтею на морду, а тот эка крутанулся задцом да тако копытцами по воде шибанул, что я сам полумокрый остался! Уфф! Скребец ще всей весенней силы не набрал, но бурлился на пришельцев изрядно… и у меня-то зубы стали подрагивать, и хотелось огня, но во-первых Алтей. Бедолага, ибо привык нежиться у Елизера, тщился по-летнему гладок, и дрожал уже ногой… я расседлал скорей, и завернул, любезничая и целуя, в шерстовную попонцу, дабы высох в тепле. Пустил пока поглодать ельницы – ибо прошлогодний бурый бурьян, хотя и торчался в избытке, жеребца и вовсе не прельстил. А то: в Фануме-то и пырейным сенцом, и овсяницей, и люцеркой баловали! А ельные лапы уже пустили на концовках свежие зеленцы, их-то Алтей и оглаждывал, шумно тормоша подрост, пока я набивал бурьян в теплые копонья для ночевья. Потом еще – проверил копытца (без подковок же!), переодел молодчика, опять шлепая ласково и приговаривая что-то бессвязное про коня-молодца, теперь нарядил во льняное, а шерстовку уже сверху. Алтей всхрапнул довольно, хватил губищами за ухо, и улегся, будто сельский дворянчик. Я же долго еще возился то-се: ковырял кору к растопке, измазался аж в смоле, потом долго вытирал ладоши, прежде чем распаковать Елизерову трутницу, потом развел что-то: дымок покурился, подглох, еще и на коленцах исползался, покуда раздул до нужной дури. Обогрелся! Ахх!!! Потом еще, подветренно, околышил и выложил полноценное нодьё двумя зарубленными еловнинами, абы полноночно бочины нам грел. Потом уже кой-как разогрел однобоко маслёный хлебный кус, прихваченный с завтрака, зажевал с ледяной водицей, и тоже укутался во что мог, даже вдевшись в бархатную корацину (из Элизеровой воинской запасницы! почетный же повод!), укутался спиною к тлящим еловинам…
Снилось ли? Да так, бессвязица…
Почём-то приворожился брадастый метарский комендантус, подкидывающий поштучно золотые мои левы (ах!), будто искры, и ловящий их в хованный кошель, а тот глубже в грязнокосмые волчьи штаны, ближе к сокровенному месту… алчащий затем прям-по-лужам Торговной линии (разгоняя претенциозных химов) на невольный рынок, где в овечьей продажной клети почему-то мыкалась Катинка, и надсмотрщиком тщился мертвый Серж, и у Сержа с поднизья ще капала кровошматная юшка… могущий только выть… И комендантус, отрадно слюнявившийся, и выкупающий красу ее задорого, долго шаря в ярких вдруг, кевларских штанейнах на глазах у сжавшейся девы. И было даже во сне жалко прошедшего метарского лета, но что я мог сделать? Даже затравившись туда во сне на белом жеребце (Элизер наколдовал бы!), порубив ажно Сержа-мертвяка и все живопырное стражие волчинам на окорм, разве мог я коснуться ее после Сержевой похоти? Что вообще есть любовь? Ах, Глаше мой!
Еще же приявился у костра Тревор, старший братец, досадно объяснявший посреди волковой охоты, после неудачного сватовства к соседской волоокой княженке, что нет любви, а есть только владение. Или ничего нет вовсе – вот как ветка хрустнула в костре, и нет! И тогда ты жалкий мозгляк, как сам Тревор сейчас, но он задаст им жару… задаст жару.
Я в полусонье передвинулся от жара и дрема продлилась яркой вспышкой: тако вот! И дождался же (ах, но знал я, что это только сон!) повода-голода, за какой-то заблудший скот, который сосед не хотел забивать, теряя престиж, и всех крестьяшек за зерно заморил, ажно волки выли под ставнями… и напал мало да сытно, и получил свое владение – балованную пегую красотку, – и насмеялся над былой Левкиппой (ха! соломенные мечты!), заточив в голубую светлицу. Ибо главное – владение, писаный контракт, где свинцом опечатано быти, что Тревор – хозяин ея. А сам-то думал бегать по доступным крестьяночкам, щедрый с ее приданого, ха! Ах, что за сон!
Но всегда Тревор-мозгляк смеялся над малышом Гаэлем (мной): мол, больно жалостив. Так и дразнил нараспев: жа-алостив. И потому-то повелел в столичный ликейон (ближе к достатному дяде-вуйничу) учиться на Глахова пастыря. Ах, Тревор! Так мало до смеха знал о Глахе! Ибо кто же главный небосводный загонщик и судья? И никогда не было в легендах, чтобы Глах плакался о чем-то денощно, но всегда разил или прощевал единым морганием божеских век.
И потому снилось, что был я король у костра, и туманные эльфы доставили мне Катинку в клетке, и она голосила что-то, но разве женщину слушать? Ибо был я справедлив дважды – разом клеть расковали самой яркой головейкой, но велел ей сгинуть с глаз моих ко всем волкам, даже изо снов моих, ибо такова моя боль и решение таково!
Волки?
Приснилось вдруг – под веки аж забилась белесая Луна, круглощекая, будто Катинка опять, и тама, где ельник – вдруже зеленые (в отсвете костра) радужки и белый оскал, королевская стая! И двашны волчеца секутся шумно справа, и вскинулся же сонным дураком на обманку, не успевая размахнуться-то, но ще всхапывает Алтей, разметая сено, роняя шерстовку, – ах, призраком всхапывает, молча-страшно, без ржания – и так наперерез, прыжливо выкручиваясь задцом, ощеренная морда прямо у меня перед лицом, шпаря горячий дых. Тело мое само будто отшатывается, абы не поранить коня, и падится (меч колесом) дугой налево, откуда подло-засадно, ах! – мужарые волчары двое, одной мордище так и врезал наискось удачливо с разлету (Глах-те!), аже костозубья брызнули, а вторичному шуйцою… воткнул рукавным обручем поперек зубцов и дальше продавляя ко глотке, где беззубо… падает гад и безумно волчится под животцом и дранит когтями, и шуйцу грызет сквозь обруч, ажно слюни адские! И насилу перехватил меч зарезать скота… тут ще двое вроде кижатся серыми тенями, но опять-то молодчик Алтей прыжится до дрожи земной и раскидывает задним лягом и отскакивает мне за спину, выдыхая желтый пар через лунный луч… я уже поднялся зло, весь в их крови! Волки стелятся полукружьем, зеленые щуры и рычливо прижались к земле… я стою ровно, напрягая чутье, Алтей танцевает сзади наготове: земля поет под тяжким копытом!.. Вожак-то вдруг вычится в луне ярко – глазится покойно с высокой кочки, скосив седую бошку. Белый волчец резвый, наскочивший без спроса, койму от Алтея вдалось, – младый воин – вдруг-то громчее ры-ычит и прижал ушци, но хык от вожака и замирает. И тут я будто нюхом вычел вожака развесье на весенних звездах: двое палых – пища есть, а что прошло, того и не было. Щерится: ще нападнуть всей стаей – беспременно задерут сладкого людца, но жеребец мешется зело-зело… може закалечат ще трех-четырех воинов, незачем, стая ослабнет, а скороть свадебный круг! Агрх! Белый ерзится опажно, но вожак хыкает инако уже – хочешь поместки, кы-кидавайся! стая не поддержит, будешь ще мясцом, и белый затайно скулится – и схватка решена. Вожак глазится выжидливо, щерясь, но тихо. Я мечом машу в окольность дальнего прорубленного волка с растекшимся мозгом. Два воина щерятся и утаскивают падаль, волчицы ще держат окаем, теребясь и скуля. От вторичного же волка я, заблажив вдруг, одним шагом отрубаю лапу с черным когтем (ах, ярчеливым только скудным эхом от костра, будто искоркой!) и откидываю назад. На остальное кажу гордо/скупо – и волчицы хором утаскивают. Глаза их сгорают в ночи, как и не было ничего. Добычу натыкаю кривоспешно на меч, ободрав у толстой ляхи, и жарю в раздутом костре – жирное, потно-соленый ужасный запах, но жратва…
А утреча – выплеснулся из неясного сна (что-то опять с жалостивой Катинкой, да и Глах с ней! меня-то ждала-ждала летоглазая Летта!) под кичливое ржание Алтея, довольно валяющегося по песчаному берегу, аж ноги вдрызг, да и вскакивающего на дыбы, алчно зовущего пропащую Белку, да и обратно кувыркаться в песок. Потом уселся изумленно, ноги ровно по бокам, без девичьих этих закидываний в сторону, как и подобается боевому жеребчику, – оглядываясь кареглазо-недоуменно, а где же Белка и все, но вскочил фырчливо, заметив меня, и подошел здороваться.
– Молодец, ах, молодец! Воин славный! Белка ой-ой залюбит! – шептал я, смеясь и целуя мокрый шершавый нос, вот-вот из ручья, ажно каплется! Холодна водица-то! Алтей в ответ лизался, прямо жеребенок, и щипал ухо. Благодать!
Отошел затем по спорой нужде – на дюжину туазов (ах, ну саженей) и нашагнулся на кровавое торжище, где давеча пировала стая: только рыжевная башка и шкурные клочья, будто замотанные в кишечности и кровной юшкой политые… агрх! И как же вечор я сам давился и жрал вонную волчатину, дрожа и голохясь, и не слыхал даже, сам-то не зверь ли? А нынче-то самому по нутрям судоргой повело…
И скинув наколовший спину доспех (особливо лопатку десную напекло), в котором так и спал, побежал умываться в ручеец да оплеснулся бодро так, аже сапог захлестнул… и еще плескался радостно… ах, и заныло вдруг на шее огненно – вот, оказалось, шершавится царапа от злого когтя, прямо у яремы прошла, когда давил гада. А и не почуял вчера! И задумался аж посреди вечного ручья, как же все под Глахом ходим, и вот чутка подует он устами – и кто живой: ты или волчец злобный? Все бы божкам нашим жребий на одуванных пушинах разыгрывать, как и учил Елизер!
И поцеловал еще раз до-олго, ох до-олго! – Алтея в чуткую сопатку, и ухи потрепал, и гриву взгривил вольнее – ах! ну что за конь-огонь! – и почапал по лесу, где каша снежная ще, размысливать завтрак. Недолго и бородил, насквозь через ельную косу, – и прям-то на прибрежных гладких каменцах, где белое солнце пекло уже, выглядываясь из-за серомешной горы, подбил ножом зазевавшуюся векшу, тож припавшую испить, – ну вот и ладно! Мясцо-то светлое моментно закоптил в живом веселом огне и зажевал, а вот желудок ейный – отдельно на еловной палочке обжарил над пышливыми угольями, и ах! что за благость! где-то еще хранила верный запас орешков, и такой вышел сальтисон, что ну просто Глах пальчики оближет!
У эльфов было здорово.
Еже-толе въехал во прутовые воротца, увитые праздными лентами и ранними вербами (а стены и не надны им, ибо незваный тать и пути не сыщет! будохаться будет три дня и три нощи, и даже за приглашенным путником бо прикоробится, а моргнет – и опять един во блате хлипком, где сырость по голенище, да глахова зезюля за неведомой кочкой зачинает вычет, только беги-шлепай, да знал бы кудова!) – только въехал, и уже веселые девчонки в белых хламидах, сами к будущему лету на щедрой выдаче, набежали табором, прямо за именитые порты стянули меня, щекочась и хихикая, с податливого Алтея (тож зацелованного! и малому мальчонке отдали, вроде и толковому, – насколько успел сквозь разветренные косы девичьи проследить!), и потянули до избы-белокурки – ах, знамой бани эльфовой, куда и сами запрыгнули! Ах, то не у воинского колодца лужу топотать! Ах, что за нежный обычай! Но было чисто, и не воздумайте хамовничать! Всяк-то знает по сказкам, ежели любовь, то эльфица сама мужа благословляет, тайной золотой завесой оборотя, а сие общинное баловство – ну как дети чисто, так вот умеют радоваться, и дражных гостей утешить! И вот – мимо каменцовой печуры у входа, задобренной сладостным ясенем, – ах, душевен угар! ажно отворотился! – да по рыхлому сенцу на полу, провели-усадили по центру на дубовный топчан, щедрый ще гландисовым духом, – и одна прям на колени мне припала пушинкою белой:
– Ах, мейстр Гель, ни-ни не джвижтеся, бо цирюлька надится, ще наладится…
Так щебетала-щебетала, я и половины пений не понимал, а уже намазала мне густо подбородок зольным каким-то мылом (вроде ягнячьим? но по запаху неясно было – ще какими-то сушеными цветами разбавилось?) и скребла по молодым усам серебряным нежным ножиком, самостным рунным лезвием… приговаривая, пока смотрела меня, будто читая нотную музыку:
– Ах, мейстр Гель, акий рубиц, ни-ни не движтися, бо живинка сладится, все загладится…
И ще из под лавки боковой выкликнула нетерпеливым щелчком пальцев прыткую золотцеватую коробочку, на ходу расщемившуюся (да и в ладонь!), с пахучим едким запахом, но и сластным одновременно, и мазюкнула болящую ярему так, что враз защипало солнечно и тепло разлилось, и почти уснул, даром что с большеглазой беляночкой на коленях.
Но еще другая, не очень виднелось в жаровом полусвете, но вроде с фьялковыми росплесками волос и с фьялковым дыханием в ухо! еще другая небесная жница (так ли багрянородных эльфиек кличут?) натирала уже бережно спину, так замылив сперва до розовой пены, что через намятые плечи аж перелилась, и потом скоблила сушеной травницей и голосом высшим почти баюкала:
– Ц-ц-ц! Тише сиждите, мейстер Гель, тише. Как же моженно тако загрязиться, чисты же ручейцы! Но ах, красочны, мейстер Гаэль, бо сама бо зачарила, да не мне гадание!
А третья уже клонилась у ног, и только рыжая макушка девы мякалась сладко о колено, и что-то клацала над ногтями, тоже грязными знамо и, ох Глах, вонными что волчьи, даже сам я почуял, едва опрыснула паром из чудной бычьей грелки (тоже с рунными оттисками), аж покраснел невидно под розовеющей пеной. А девчушка – ах! – еще нащупала стыд: старую, со Франкии ще, бородавку на ступне (ах, еще ликейонский доктор раствором крапивы вытирал, – но вот опять подвылезла!), и блеснула в парном тумане серебряной иглой и тонко-тонко торкнула, стряхнув затем в подскочившее ясенное полено, и так ще приваживала низким ночным разговором:
– Эко же люди водятся. Терпитече, мейстер милый, бо выкрестывать надость, тишце…
Надость! Да я чуть не встормошился, услыхав волшебное слово. То-то же Элизер улыбался знамо, когда jeune ami ведал ему о новых словопрениях! И то-то я легко почуял себя с незнакомыми прислужными девами, будто сестрами младными, ажно признался сгоряча:
– Ах, любость! Да хотя бо терзати бо меня три дни, девы эльфийски, ще нагляднее вас не сыщу! Яко же именны ваши, чтобы тридесять лет помнились мне, або встречу вас матронами знатными, здесь как бывши вчера, ваши юные заботцы?
Ах, расхохотались треголосно моей ломаной речи! Но забавны были их имена, и покажно стригли и брили и мыли и натирали и лелеяли, покажно клубился карамельный на языке ленивый пар и душилось мыло в носу расцветшим прошлогодним клевером, и через сладкий водный плеск и девичьи хи, когда глазелись на меня откровенно, все повторял (хотя и забыл скоро) имена их, путаясь кто и кто: Торопа, Ахеза и Лоция.
Ах!..
Ну потом – жизнь еще шире раскатилась. Будто… будто тележная тугая пружина, поддатая на крутом пригорке, распустилась с затейным звоном…
Так поддал плечом тугую банную дверь (девчонки-то пальчиками волшевейно щелкали, аж искрили голубизной, а я-простак – а на раз! без нежного телячества!), и выкатился через парные клубы буквально под горку, все ноги впереплет, как говорится, – да и свет от льдистого ще озера глашил двояко в лицо, после тайного сумрака-то, и воздух снежно-весенний ожег горячее горло, и ветер во скальных соснах шепотнулся и долго звенелся в ушах, пророчествуя высокую судьбу… Да, разве не знали вы?! Когда во поле чистом, скажем, почудится те тонкий зов, а другие путники и ухом не дернут, то истинно говорят (ну, кормилицевы сказки, но вдруг и правда?) – то ангелосы Галаховы призывают тебя возвысить их воздушные легионы!
Ах! Так и ткнулся бестолково в спину мнущегося на бережку пухловатого паренька. Право, неловко! А тот-то и сказался свадебным женихом!
Ить же! И Клевин-то (по правде: Аклевинар; но кто бы такое имечко вынес?!) выдался юнцом-блондинцом пуще восточного хлопчатника, но вполне веселым:
– Ах, мастер Гаэль, – акцентировался вполне школярно, будто степенно вышедши из трапезной факультета Схоластики (ха! бо кто не знает – эти-то прилежники и буянили втрое!), – но возможно ли, будемся поименно?
– Охотно-охотно, мсье Клевин, – ответствовал я щедро, радуясь собрату и пожимая легкую руку. Ибо уже чуял, так хорошо распарившись, полное тождество ко всем эльфам на белом свете! И тоже велеречился, смеясь и на ходу (вот Элизеровы уроки!) выстраивая суразные куртуазности: – Ибо уже, от востоль радушной встречи, чую я к народу вашему истинную любовь и, самособно, ко столпу праздника! Но доверьте мне… ах! Укажи мне, Клевин, где же нареченная? Тако ли, кажут люди, – золотою звездою зовете вы верную жену? Аль столе прекрасна – а уверен я, что еще заветней! – бо те молодицы, что лелеяли меня, то воистину счастлив ты будешь вечный остаток дня!
– Право, Гаэль, я бы радешенек, – Клевин и впрямь-то будто засиял небесными глазами при одном воспоминании, – но ты не знаешь ще достольный наш обычай. Позволь, я сдружу тебя с наперсниками моими, угостимся наконец, – ибо тебя мы ожидали нежно! – и обсудим, ах, наказаньеце от распорядителей, коим не терпится сбыть нас подальше! Ибо, брат мой Гаэль, нет на эльфийской свадьбе более бесполезного существа, чем благородный жених!
И так задорно, так широко – аж на все озеро эхом! множа солнцевые блики! – расхохотался при сих словах, и дружно подхватил меня за руку к широкому навесу, где трое молодых эльфов в пестрых вырядах (а жилеты-то: чисто золотистые дрозды по весне!) уже взмахивали радостно руками и кричали невесть что. Ну, вы знаете молодежные гимны: йо-хо! вот и они! и что-то про Глаха, и еще, и еще…
Эх! Как хотел бы оживить тот миг! Детские разговоры, детские важности друг перед дружкой и детские заботы, которые мнились нам серьезными! Но даже если войти в божественную медитацию, ежели перелистнуть книгу памяти ровно на то солнцецветие, знание будущего не изменить. И можно только смотреть на былых друзей (золотистые жилеты! ха!) и улыбаться чистой слезой: экая смешная картина в золотом багете!