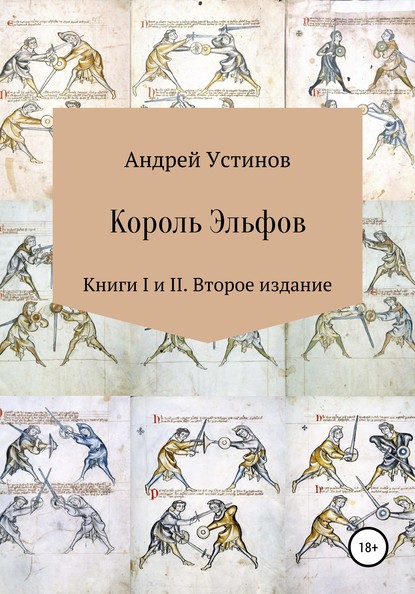По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Король эльфов. Книги I и II. Второе издание
Автор
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Комната сия, высокостворная, полдома почтитай, – кабинеция Элизера – выходила долгой стороной в сад, полный яблонных деревов, старых и мшистых, почти бесплодных. Именно деревов – столе узловых и шершавных! И даже при открытых вечностно створах – все-то чудились сладкие старокнижные веяния. По утрам – слепой туман тщился пролиться в теплые окна, колыхаясь втуне, но удерживался невидной пеленой добродушного Элизерова заклятья, хотя наощупь и не чуялось ничто, окромя росы на пальцах… А по вечерам – все ночные жуки слетались на свет Элизеровых вечных свеч (ибо не было ни масла, ни фитиля в них) и сбивчиво танцевали перед оконьями. Ах, будто снаряжаясь на бал в самых блестящих обновках! Будто ожидая сказочную фею, превратившую бы их в зажиточных горожан! И тут же хватко мелькивали то и дело в блеклых лунных отсветах палево-рыжие вечерницы (ну, летуны-недотепы, знаете?) и прочие привычные к местному пиршеству существа.
Раз как-то, потягивая минуты меж ходами (то были шахматные проигрыши, очень мне досадные, сколь я ни маялся угадать удар… паче-то Элизер не размышлялся вовсе и приметно вел сии уроки только для jeune ami, отрываясь от важной алхимии, – ах, как он раздражал меня этими jeune ami!!!), я воспросил ребячливо:
– Но pourquoi, ах, pourquoi, мсье Элизер, вы благоволили устроить столь почтенный сад для себя? Можили бы разбить вечно-цветные вишневые рощи, такво для мадемаузель Летты, али желтые разливы нарциссов, дальновидные из моей горницы, ведущие беспечной лентой по темным вершкам холмов? Абы, знаете, стезица ко Глаху самому!
Я помолчал сконфуженно и добавил еще, взмахивая ладонью:
– Знамо ли, вы находите некую общность разговора с сими многостолетними стволами? Ибо, даже для допотопных яблонь, о коих ведано в ваших книжциях, ваши уж зело как стары, pardonne moi!
Как часто бывает с юношами, двойной смысл речений донесся до разума запоздало, когда буквы обрели отзвучие. Я тут же закраснелся под его взглядом (насмешливым и снисходительным одновременно) и прихлебнул еще пунша, и запершился, и загорячился с еще большим ударением:
– Ах, pardonne moi! Я не хотел, мсье Элизер, никоего двумыслия и сказал ровно то, что сказалось. Возможно ли, готов принять, я кручился разве… pardonne moi, разве ли о свойной судьбине и будущих днях, что мне доведется еще перебиться здесь? Как если бы, comprenez-vous, ваши любезные разномастные… pardonne moi, мастеровые ли уроки, к чему-то меня готовят, но к чему? Время на вашем чудном подворье просто застоялось – жить-не-тужить! – и будто бы я не ведаю ведать, где же заводные гири, чтобы заново запустить ваши редкостные беглые стрелки… pardonne moi!
Элизер же, мерно-грузно шагавший по упружистым половицам всё время игры, тут замер у оттворенного окна, где в наставшем молчании – ставни тихо постукивали, тянуло ще теплой сыростью, капелью оседавшей на раме, и всё птичное разголосье лилось во благом отдалении. И еще раз глянул искоса, призвал меня тихим волшевейным вздохом и молча (ще вообще разговаривался редко) как-то восплеснул кистью, и сад за окном подернулся цветовым маревом, переливаясь в живую картину. И что прозрел я: развидел многоглазую цветками поляну на холме, где пробивались молодкие яблонцы, и блеск утреннего солнца в их нежных ветвицах после грибного дождя (так даже жмуриться пришлось), и внял встрепенувшимся сердцем, кабы перенесшись живьем за старые ставни, что здесь-то давеча набрел Элизер на яблонцы сии, и воздохнул восторженно, и раскинул вокруг них грядущий Фанум, и века протекли, как сущий день, но яблонцы живы ще, подпитанные Элизеровым выдохом. Но мудры, как и сам их верховный маг, и (правда! ах, правда!) любезен Элизер повздыхать с ними не людским разговором, но ласкостью вьющейся у корня травы, помыслом ползущей по стволу любоглазой улитки-крохоборки, пряностью колдовского бусенца с голубейных небес и омывающего с шершавных листков всякостных букарок и долгоносов, и шелкопрядных гусиц, и заблонников, и пядениц, и казарок… Глах их побери!.. к радости потешных окрестных ежей, соразмерно устраивающих праздничное шествие от ближней опушки!
(А вот… А любопытно, нарочно ангажировал ли вечерниц для службы, ну как лайферы одни умеют… ах, а ежи-то потешные зачем? И я спросил однажды позже…)
Но шахматы!
Мы пока играли на двойных, но Елизер показал ще на первейшем уроке, единым взмахом – когда рука его, обороченная пестрой тканью халата, толь быстро вспархивала над столом, что множилась и уже пестрая птица кувыркалась в воздухе! – доска троилась и четверилась полями, и фигурки равно множились, самочинно разбегаясь по позициям… по-коголански кланяясь в реверансе своему notre aimable h?te, и замирая. Почему по-коголански? Ах, шахматы же с Коголана выдуманы, разве не знали вы, галерные бездельники?! Но вернемся к моей истории…
Но Елизер только смеялся в бороду их детским ужимкам. И показывал легкими движениями рук, как бы музицируя, что цельные армии знамо движить по воле твоей, ежели только чуешь ты волю и ведаешь препоны! И вот, учил он (а когда говорил Елизер, то всегда странно сухо, как бы со внуком-недорослем, что живо меня коробило), что малость толку знать ходы…
– Несть пользы скудно заучить хождения фигур, jeune ami. Допусти, некто ведает буквы, но сможет ли сей студиоз из ликейонских ваших фолий вычитать Галаховы пророчества? Такова разница, Гаэль! Шахматы суть простая игралка, только шесть элементных разниц в ходьбе и ратности. Но кто седьмой – ты! Но так и жизнь – почуй персонаж и красочность его: в голубом – внемли его сильности обыденные и смертные, во красном – внемли его слабости мирные и поспешность в часы отчаяния. Предвижи его движимость и линии силы, но предвидь и бесцветные тулупы глупости, душащие порывы их! Теперь – будеши множество персонажей, твоих и вражьих. Почуй инерцию каждого! Умножь линии силы на величие дней и ночей, кои пребудешь с ними во коловрате! Ах, jeune ami, заплачешь ты, сколько партий решены еще до рождения их слепых игроков!
И с этими словесами – Элизер показывал мне на доске, лишь мимолетно взмахивая перстом с волшебным александрическим камнем, как от малой белой пешки расходились сперва лазуритные лучики, быстро теряясь в тенях доски, как вокруг фигурки герцога вспыхивала короткая, но сильная тагашовая кайма, как от красавицы-герцогини разлетался по всей доске букет моренита, насквозь просвечивая противленцев, пока не гас в груди чернавки-самозванки! И затем – вспыхивали красным глазом ворожьи ряды: стежились ломаные пунктиры от боевых ушанов, прямобойные линии от осадных башен и косые жала-стрелы от начальственных шершней-сержей в почетных колпаках! И затем – рать на рать – воздохновлял Елизер все огоньки волшегранного камня и, ах как правда, виделись на доске гущения красных и голубых сил, и мерцала фиолетная линия затяжных позиций, и – ах же! – лунноватые прослабы в моей обороне. И прав был мой наставник – все чудилось предрешено…
– И никогда, Гаэль, никогда не повторишь ты попытки! Только боги, jeune ami, смеющиеся боги могут смахнуть живущих в пыльный ящик смерти и затеять одно и то же от начала времен! Из смертных же – Король Эльфов один, что почиет нынче в беспокойных былинах…
И махнул тогда Элизер рукой, и погасли огни, и доска скрипнула досадостно, и фигурки раскатились в ящицы их как неживые… и вышел он, не простившись, в задышавший нежданной росностью сад. И что Король Эльфов? И что за урок это был? Разве ли – разве ли пожалеть несчастных крашеных колобашек, что и живы-то только, ежели богу их угодно проучить неуча? Разве ли дотошно помолиться Глаху и Метаре, царственой паре небесных шахмат, чтобы довелась и мне сила однажды пробиться туда, на окаянную вражью черту?
Ах… да что я знал, что знал? Какой горизонт, и куда пробиваться? Вот что за помутнение старец наговорил, если все было так ясно и уже рядом – и Фанум, и благовейный тенистый сад, и зацветшие нарциссами солнечные луга, и Летта-Летта-Летта, Летта всех цветов радуги и любви!
Но еще про Элизера… Еще были книжицы!
Ох, уж это была и полка! Не то и вовсе, что в подзабывшемся ликейоне, где пыльные их ряды и надость с ломкой приставной скамьей бегаться, чихаясь и голохясь, и тормошить поблекшие корешки. Но такой армуар, крепче дома, из красно-карей заморейской яхтобы! Я такое дерево и не знал – даже в ликейоне не ведали! – но так молвил Элизер. Ну вот – и не высотная, где шаткая приставка нужна, и не широтная, где кузнечиком стрекочешься по анфиладе от края до края… а вот же! книженцы по краям затейно туманились и титлов было не вычесть, да и не вызволить ту книжицу, абы в прозрачную холодную завесу рукой попадал – будще, знаете, под ледяной пленкой? Но надо было – вот же лихо хозяин выдумал! – требно книжку вызвать, возвестив желание, и тогда в серединной секции лед истаивал, и фольянты ярчели (словно Глах солнечной краской провел) и переливались одни в другие, сообразно задуманному предмету.
К примеру, зажмурился я крепко, зажелал сказенцию об эльфовом короле, что хозяин молвил, и пощурился: вот же она! Сияет тирским пурпуром переплета, даже на руке моей царственный отблеск! Ах, герой-хитрец! Хотя, кто сомневался бы, что любая досада от женщины идет! А было так: ленился Глах воевать за какую-то малость – кажется, хотел в наложницы милую чернавку из дома адского старосты Гадеса; и договорились мужчины потаенно (ну, за праздным возлиянием, куда женам хода нет), что при всех богах уступит владыка Гадесу в шахматах, прославив тем его сметливость и прозорливость и еще многие льстивости; но малая вечерница на службе у Метары проскреблась в мужьи палаты и толь занежила тамошнего сторожевого ушана, что удрых живчик от трудов их пятками к небу, а вечерница пронырнула в зальный дымоход и всю интригу, хотя и обожженная до гибели, донесла богине; и снизошла тогда Метара к Королю Эльфов на игральной доске (и одарила ли лаской? о-хо, книга хитрила тут!..) и свойный составила сговор; и дохнула на одуванную соринку, что возлетела царственному мужу ее прямо в слезный мешочек, и заслезился Глах, и пока протирался низко над доской (и Метара ще заботливо квохчила рядом!) – дотянулся герой и ажно подрезал рыжую волосинку с нечесаной бороды; и выковал с нее такой магнитный меч, что любую вражью магию вытягивал; и когда очистился Глахов глаз – уже на доске была его виктория; и разобиделся Гадес, и была меж богов и присных ужасная свара, и запечатал вконец Глах наглеца в тоево чистилище, вместе со всем домом его.
И что еще было чудно – по первости страницы мнились бесцветными папирусными листами, тесно испещреными грамотой, разве что заглавные буквицы мелькали позолотой. Но как вчитаешься и поведешь пальцем по строке, и то-то руцевой фолиант расширялся полномерно и хотелось уже буковязную подставку под тяжелые картины! И на открывшихся полях – где-то взаправду овес колосился под копытом боевого коня, где-то синий магический кит фыркался в океане на всию потешную историю, а где-то на краю обложки сами Глах и Гадес сидели, бражничая, и (прислушаться!) слышен был эхом из угла их похабный сговор о грудастой чернавке. Впрочем, хм… судя по зарисовке под колонтитулом, деваха против не была и уже перед зеркалом о щедрых нарядах грезила: ще бы та!
И Летта, ах, как была в восторге сущем от сей истории, но и жалилась за чернавку и пытала все: может ли, что победный Глах взял ее к себе хоть в рукомойницы? И сердилась на крестного, что же гостю залетному (мне-то!) можно у чинного армуара выкликивать книги, но ей нет! И опять-опять тормошила: но, наверное, не дочитал рассказа? Почему всё мне мужеские герои любы, но никому не важится, что с простой девушкой выходит? Ахаха, простушкой! Ще бы та!!! Книжица молчит богобоязненно, но картинки-то зримо глаголют – да ведь Гадес-то нароченно чернавку хвастал, ибо была его исконной подстилкой!.. Ах ты, Летта! Ну что, что?! Так ведь наслушницу хотел заживить ко Глаху! А то листолазовой слюнцы подлила бы богу в кубок! Заговор же! И не благоверная Метара бы… Ах, право, ну что же сразу драться?!
Летта?.. Леттточка!..
Ах, воспоминания! И неслось мое обучение дальше: колдовская глаголица. Вот же, Глах прости, ересь ведическая. Ну нет – без неважества к Елизеру, даже с благовением к его чуденциям, но досада занудная! Да Элизер, мнилось, и не ждал от меня (jeune ami, jeune ami!) золотых совершений. Да и хоть каких-то – али свечу околдованную возжечь по щелчку? Не складалось у меня тогда… Но ей-же выдумал упражнение на l'accent, странное и смешное. Ибо (горнольствовал так, чутец разочарованно) свет – суть твоя воля, Гаэль-из-Франкии, и ее учись сокликать со вольных чувственных чешуек тела, паче соборный король кажет отдаленных вассалов с подможными войнами их. Словеса! Словеса быти штандарты твои, под котомны народец спешит единиться!.. Вот смеетесь вы, а мне каково приходилось! И что за словеса, и что за драма?
И вот, подо мглистыми сребролистыми яблонями, через которые желтыми плодами пробивался на неровную траву солнечный свет, – я потел и зябился одновременно, коротал долготные дни, чирикая на древние церы (абы волшебные!) всякие докучные слова. Ах, уже тут начиналось брожение ума: всячные, всяжеские, всяконравные!.. Потом и проговаривал их сочно, будто редким паданцем хрустя… ага, подбирал той-раз – странный был вкус: сладкое, но будто зыбкое чуток, вяжущее щеки. И получалось так – не щались уже ни устья, ни язычье, и словца звучали самоценно от меня, Гаэля-из-Франкии… будто и не сказанные мной, но явившиеся поздравствоваться из густых окружных теней, как бесхозные духи. И вились мимо меня выдохнутыми клубцами тумана, бесполезно печаля отсталый разум… И тогда я вздыхал и спешил опомниться, созываясь рассеянной душой обратно в яркий желток подо чревным сплетением, оборачивал стиль по совету Горациуса (любимца Элизера и будто даже знакомца по молодости!), тщательно уминал воск на церах в начальную пустоту и возвеличивал иные парадигмы. Так возомнились у меня таланные звуком – вышепомянная крайняя надость и нежнейшая обичь, в кой хотел я передать Летте-стрекозе свое дражайшее чувство, столе обещанное и вечное, что ставшее уже обычаем для высокого духом человека (меня). Были эти слова емкими, как семечки… да, будто все старояблонные истории – ста их или сколько там лет! – я пропустил-таки через язык и выжал каплицу нектара, и заколдовал ее в малое семя, могущее теперь разверзилиться острым ростком и перенесть во сладостном фруктовом хрусте те же истории иному мечтостремительному юнцу! И если надость аж на лету воспорхнула из горькушенного семечка серым коршуном, завернулась в острое крыло и унеслась вихрем сквозь задрожавшие веты, то обичь… ах, распустилась от матери Земли пряным кустом, вроде розового, но без шипов (Эвгенолия, сказал потом сухо Элизер)… да, куста самоцветного в окружной тени, на побегах которого из розовых бутонов выпушилась целая стая райских щебечливых птенцов!
– Ах! – вещал я разгоряченно Елизеру за вечерним яблонным пуншем (ах, как в нашем родном ликейоне! обязное завечание в читальне в окружии перемигивающихся свеч, будто бы слушающих)… – Ах! – восторжно повторялся, причмокивая, – я, быть можно, сонничал или бредил, но в какой-то миг чуялся… voyez-vous, почитал себя Глахом, сеявшим землю! Знаете, мсье Элизер, я немного… немножно учил парадигмы во младости моей, и днесь вычел дивное правило. Вот же! Надоть взять согласные лишь звуки, а голосовыми недарными може играти беспечно, – и слово блестит-качается всеми боками, абы игрушка на волхвическом дереве! Ха! Ще-то можно баловаться оконченцами, завистно от цели речи, и тогда словницы сии – мелькают и кружат, как точно те вот бражники заоконные, и даже будто можно их приручить, чтобы яркой пыльцой ополошили протянутый перст!.. Кажем, загибая персты: любовь, любица, любеница, любушка, любчинка, любвашенька, любылинка, любаляна, любница, любрава! Но все же, мсье Элизер, – так я вещал, мелкими глотками подбираясь ко дну пинтовой чаши, – хотя мне весело было и славно выражать словеса сии в волшебственном саду вашем, кои ярчеливыми каплями роснились по веткам, и приживались где, тамо знамился молодой зеленый листец!.. Так да! Но, право, – так беседовал я, хитро (как думал) подлещиваясь к значимой теме, – не смешен ли буду я, вещая пафосно крестнице вашей: Летта, любость моя!.. Ибо нужны ли ей сю и тю, которые милятся во дреме так невыразимо неженно, но в обыденности нашей, что скажете вы, суть бессильные одуванчиковые клубы на фоне беловежьих гор?
Я был весьма воодушевлен сей тенцией, уже близкой (так думал) к риторическим образцам учителя. И опустошил бражницу, и вдохнул еще пуще воздуха, чтобы очертить идею собственного каменного чертога в той золотой долине. Ах, как не хватало золотой указки, дабы по эфиру рисовать!.. Элизер, однакож, лишь усталостно хмыкнул, как бывало за шахматами, когда jeune ami запальчиво замахивался на шах, тихо пристукнул плеснувшей чарой о столешницу и вышел в сад.
Однакоть!
Однако, наутро (хотя Летта и капризничала прям при крестном – очень-больно хотела прогулку) я получил от Елизера другое упражнение, куда как юношеское!
Серебристый том, выданный армуаром по наказу учителя, причем с долго-отным скрипом! – ныне довольственно плыл перед нами по коридору, покачиваясь на порывах сквозняка и роняя известковую пыль – знать, многоденно томился где-то на печи! – и мнилось в неясном приторном воздухе… це же пространный шлейф истории реет за ним тяжким штандартом! Да! Еще в либрарии учительской, тяжело пробуждаясь, фолиант затеял ворочаться в воздухе и шелестеть страничьями, и повеяло с кажной древностными тож запахами – то ли горькой пу?стыни, то ли засохлой крови… да и в ушах застукало, будто зубовным крошевом сыпались удары дольных мечей, ще успевай баклерничать, да перекрикивать бранные частушки врагов… ажно я оступился о порог!
А! В этой длинотной комнатце ще не был, хотя и ротозейничал, но Летта не знала и сама. А вот оказалось – оружейная, или, не-не-не, цельная ристальная зала… я щурился наперво от серости, но едва Елизер щедро хлопнул в ладоши, и расклацнулись ставни, расхлопнулись зеленые портьеры, тоже поднявши пыль веков, которую тотчас свежий сквозняк разнес за ясные окна, – то-то солнца открылось вдоволь, и каждый в комнате отбрасывал черную, будто углем рисованную тень. Хотя… что же?! У Елизера-то тени не было? А моя-то вдруг вывернулась в угодливом поклоне, махнула по половице тенью треугольной какой-то шляпы, переменила ноги в приприжке, звонко задевшись тенями туфельных пряжек (чу!), махнула теперь нелепым шлямпомпо с другой стороны – и явно чуялся воздушный ток и даже мелкий мусор под ногами разбежался по щелям. И молвила с ужасным карканьем:
– Yawohl!
Уф! Вот же волосья-то зашевелились, и я замахал (ах, будто отрок малый!) испужно руками, а тень тонко прихохатывала, перепрыгивая за мной по недвижным доскам, странно завывая:
– Mein-herr! Mein-herr!
Уф! Егда лишь Элизер вострял на солнечном пути и тень воткнулась в него, абы сослепу, тогда лишь замерла заколдованная, и когда я отошел на всячный случай – так и отошел без тени. А та осталась недвижима, распластанная на полу перед волшебником, даже не тратящим на нее незначительных слов. Ох, вот же колодейский морок!
– Ха! – звучно выдохнул Елизер, ухмыляясь в бороду. То-то редко бывал он в улыбке, и знамо доволился розыгрышем. – Ну же, Гаэль-из-Франкии! Сие суть alter ego твое, спящее обыкно в обличье тени. Все сомнения, Гаэль, все слова глагольные! – он звучно вдарил об пол древней пикой (ааа? как же пика из угла в десницу его скаканула?! аки гончая сука на призыв псарника!)… заставив доспехи на стенах задрожать, приветствуя зазевавшегося юнца (меня). Ах, осерчал! О чем же он?.. – Сеют они! Сеют оные помысл, неподвластный тебе, но хотя бы устыдись! И помяни, ежели икается тебе и тень на земле дрожит, будто отрываясь, – proh! тако alter ego твой жаждет разговора! Зависимо от реляций ваших – упреждает о беде, аль же тщит на погибель. И сие – талмуд верный о привычках сечи, – будеши штудировать здесь, поколь не повинишь демона, поколь трижды сквозь тень свою не проколешь Глаховы слезы!
(Ах, Глаховы слезы! Ну, сие нежное предание опять: утреча вышла Метара к соседке за солью, не желая мужа будохать, да и заболталась, как у дам в обычае! И проснулся Глах и заискался жены, и такмо гневом выдыхал, что полмира заволокло темным туманом с сажей пополам, и лишь когда вернулась беспечная Метара на порог и бережно коснулась перстами царственного чела, то отряхнул затем три слезы, что пробили черные тучи солнечными лучами и вернули радость земным вершкам!)
Ах. Ежеутренне теперь я плелся в ристальную, открывал (долго слюнявя палец) талмуд на пригожем упражнении, и тутож угловатый vis-?-vis отрывался от каблуков моих и прицокивал-прихохатывал, прыгая вокруг и размахивая шляпенцией:
– Yawohl! Mein-herr! Mein-herr!
Слов других демон не знал, да и не хотел – прыжился вокруг, абно преданный щен, и тяжестный меч в моих руках отражался в лапах тени невесомной игрушкой, коя и колола-то меня не больно, но зело обидно! И обидно бывчило, что не сталось песчинок времени для милой Летточки, и нарочито дулась на горячий яблочный взвар каждое утро, но все же… ах! Стократно отвечая на ейные вечные-беспечные вопросы – ах, как с Леттой было слаще, с Леттой были беспечные одуванчики и хмельные шиповные розы, но все же. Я же солдат, да? И дюже буду хранить ее, родную и нежную стотиночку неразменную, ото всяких черных магов и ухвостней? И не внемлет ли Летта-душа, что все сие учение служит для нас и любви нашей, чтобы мог я, Гаэль-из-Франкии, однажды шагнуть в этот мир за Фанумом твердым дубленым сапогом, ведя любаляночку за белую руку? Ах, верила ли мне?
Вжик! Вжик! И ах, как я ненавидел пронырную тень! Даже не почитал уже своею, но жаждал подчинить… И сам уже бежал поутру в ристальную, не доев и не допив: больше пота и синяков! И бормотал-бормотал себе под нос всяжную полуневнятицу, как балаболят мальцы сами с собой, борясь со взрослой игрушкой. Так отец когда-то смеялся на мои потуги со строганой деревяшкой, так и тут, правда?
О, други мои! Ведаю (как не ведать), что сие наставление и звучит абы бормотание мальчишки! Но передаю нарочито так, чтобы достоверно воскресить мой радостный миг!
И тако бысть говорено в оконцовке учебника (а кто же не перелистывал торопливо в конец?!):
О, учинец! Ежели судить о поединствах с тенью, то внемли простую правду – образ твой чует навычества твойны вернее, ибо не мыслит, но за навыком бежится безрассудно. Однакнож, пока оторвана от пят твоих, тень не внемлет грядущего (то единый Глах всемогущий, хвала ему, во сне прозреть может!), и ейда поступишь не по навыку плеча, но по кичливому случаю, по весу песчинки в горсти и цвету облака над покосом, тогда поровняетесь в удаче и приторочишь обратно отбившееся!
Ах, вот же волошба! По чести сказать, так и не понял секрета. Но в предыдущей главице было куда занятнее: манускрипт заботно перечислял кустодии (семерик), обсессии (шестерик) и инвазии (полная дюжина), важно именуемые базисными. И хотя много-много я умеловал еще по детским выпрыжкам с братом на конском дворе, и позже в ликейоне зазубрил их колкие названия – все злоязычные Langortis и Walpurgis, – все же (малец мальцом!) растекался аж слюнными пузырями, когда разглядывал живые иллюстрации на полях книжии. Ах, как знатно! Се – монах-адепт выжидает с мечецом подмышкой, а учинец пажет полущитьем – то бишь, выцелив меч вперед-вверх и полуприкрываясь баклером и дрожно ждя монахова рывка на разбитье сцепки. Аааа! ажно резво адепт ныряет под щит и меч, но вяжется от меча, а не баклера! И ща школяра понаткнут-то на вертелец! Ха! Но-но-о-о! Гляди же как чудится и меняется картина! После трех-то подряд проколов, ха-ха! – оживился учинец и заметил: крашеный баклер адепта почти-то бесполезен ще, маячась далеко справа, так и манится маневр – ты упережи чужий меч, отрази и навались десницей, и движись горне, и сам-то наткнешь его! Ах, слабные руки, слабные! Попал-таки чубчик на вертелок! Уф! Но как же?
И так я распереживался, жарко дыша на книжку и жадно следя строчку пальцем, что сумрачные буквы-завитушки показались на миг яркими и понятными, будто воспыхнули магически, а затем старинный текст и вовсе растворился в голове, и манускрипт уже запросто беседовал со мной на ты.
А и то, подробно объясняла глава, что можно слабака эдак нахитрить, не боле! Ибо бился монах с замаха из-под руки, а ты-то, школяр недоделанный, с полущитом прямо шел и проспорил momentum, и даже равного не перевяжешь.
И рисовала книга секретный прием. Ты намекни только движение, будто бы юношески поспешное, дабы распалился адепт и не чуял, ако ты востолкнулся сильнёхо и падаешь наискось… а даже пуще заглядится и улыбнется в усец – о, недотепа! Щас-то он тебя сверху клюкой порешит. Но у тебя только миг, одна песчинка часов, – надо отчаянно в том падении перевернуться, абы перевязаться вокруг чуждого меча, и баклером только не забывать чиститься от адептова лезвия.
А как это? А вот – перелистнись и внемли живную картинку! Вот же приемец! Вот momentum! Вот это да! Вот ты давишь фальшиво на меч адепта справа, на самое-самое острие, продолжая будто свойное полущитье, и твой баклер битый, промятый посередке на прошлой схватке, бесполезно прикрывает шуйцу! ааа! и щас-то мечец вражий заскользит лезвием вниз – десный локоть твой погубить… ты толкайся, но падай ПОД него и извернись ликом ко Глаху и баклером (ловчее! ловчее! нарисован же пример!) поднимай-отражай выше его уже холостой меч, а свой-то выжимай-прижимай (а ну как бы в клещи, понял?)! И не забудь ще оконец-то горнее держать и острить туда, где тщится монах. А ты… застыл ли в картинном прыжке? Но уже падишься спиною коземно, мечец евный провелся над тобой как по механической кулисе (внял теперича, зачем в баклере промятина? а пригодилась!), и десницу вышее-вышее ко Глаху тяни, проскользи клинцом по клинцу и быро чур-чур подымай, дабы над его рукавницей возвилась и тычь-коли монашка под самое яблочко!
Ох, но сколько синяков набил ваш рассказчик по сим заветам!! В голове-то ясно, но и телу пришлось учиться. И какова радостица была, когда Черная Башка раскололась восконец солнечными трещинами под моим острием!