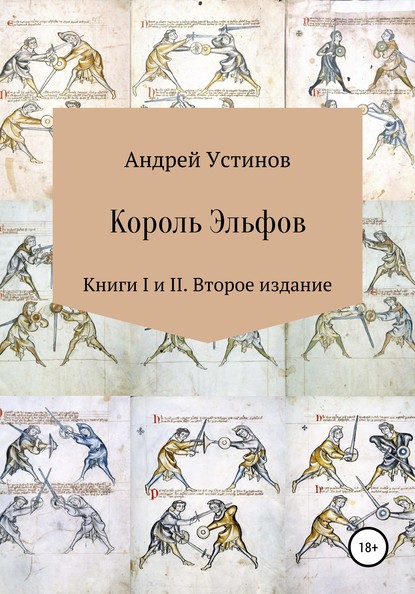По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Король эльфов. Книги I и II. Второе издание
Автор
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Шаги зашлепались поверху, брызнули грязевными кляками, и я ужался… задрязгся в бессловном плаче, заслышав тонкий предажий глас:
– А, Гэлька? Ну човты, Гэлька? Не скворчи, не вживай… Човты? Ще недолга, ще у Глаха бужем стольничить, ще… Анто Сержеца мово не трожи, лады? – лепет Щербы перетек внезапно в ерное скуление, душевой визг, и от пришедшего откровения я враз ослабил пальцы и плеско залужил в смрадную тугую глубь, нырнул по самы гланды, еще внемля сбивчивые перечеты Щербовой запутавшейся души: – Онеж стражец Глаховый, нежит мне, щитит, прегрешет ме…
А было так, вспомнил полыхом: занесся на едином дыхании, сквозь лагерь (где на площади разбили бивуак новобранцы, которым не хватило барака) – сквозь лагерь злостной кометою прохвостил, убивая поленья, проставленные сушиться, подрав растяжку со рваными чьими-то рейтузами, подбив чей-то не к месту выстуженный котелок, расплеснувшийся под ногу постной жижей… сквозь глаховый мат, примчал на наш со Щербой пост, истово шепча-плача: “Убью! убью, убью”, – и каждое новое ю, синевою вырывавшееся с сиплым выдохом, будто придавало сил. В этот миг – кажила кормилица, предсмертие тако меречится ярко и ясно, – в этот миг внемлил все. Сквозь кровь в глазах и пот и оглушное биение в ушах – я людей не видел и не слышничал, но внемлил-то все: как нехотя падал гландис с дуба, чуть косо кружа в стылом эфире на единственном в оперении листке, как расплеснулась от паданца мелкая лужа, окаймленная пеной, облив по зобу серую лягушку, чье горло тут же пошло радужницей; чуял, как сойка с оголенной липы расправила голубые плечи, готовясь чижикнуть сварливо через набитое горло; как тут же ревниво напружили лапы белки, ковыряющие поляну; осязал, как влага копится на желтеющих липовых сердцах, сливаясь в знатные тяжкие капли, таща на себе наметенную пыль с озимного поля и каких-то мелких фузорий, знающих только о капле и ничего – о Голохе и трех его тетках-пророчицах; внимал кукушке, что на дальнем крае облесья затеяла кому-то отсчет оставшихся дыханий, запнулась, перечела еще раз раскинутую рядком паутину, запела заново; и запал Щербы чуял по дрожанию пола под его неустойчивым бегом из каморцы, по выметнувшемуся из двери заспанному сенцовому духу, а вот лепет слов его – не разумел.
И все сие счастье я готов был кинуть Глаху в глаза – в размен за червную юшку вонючего гада сержа, за клочья его черного тела, расчехвощенные по корытцам на гладость псарни, ибо только псарне, только волкоедам можно сие мясцо, а даже вольным вороньям – ни. И чтобы кажный чернорвивый кусок, ще сочась юшкой и отвратно дымясь, каждый из сотенной мелкой порубки, – ще голосил и взвизживал, пока волкодавы ожесченно грызжут его на жилы и мозжевые костья. И чтобы…
А что с ней? Да не мог я больше считать ее за деву, ажже подает себя за наценочку, даже если заради отцова дела. Пускай так у них в Метаре принято у девок-то, ибо так шнырь-то тавошний (помните ли про жену купеческую?) и сказывал! Ах, но виновна в плотском обмане, и сожжена была бы позорно по милостливым Коголанским порядкам. А по местным-то порядкам – вольной воля! И я дрожал-дрожал-дрожал, вцепившись в коряги ободранными ногтями, и выбивал зубами боевую дробь. Ибо делала так много, знамо, и до меня, то лады, но не прервала и не сказала, – что же, вольной воля, вольной воля, вольной воля! А покалечил бы, поленом подручным залущил бы сержа-гада на посту ночном, сучком то в глаз ему бородавчатый, и колуном по черепцу, как по гландису гнилому, и войским воем созвал бы всех зверей и птиц и жучей лесных, чтобы сожрали к утру даже малые пятна юшки, даже запах поганый выпили, а кости – кинул бы в дозорный костер, что горит вечно, рассыпаясь по ветру пустой злой… и… бы…
…
Было холодно, и я ведал, что умираю. Я ныкался теперь, хотя и шатко, на некой коряге, нащупанной на противной стороне ямы, на коей мог сидеть, свесив ноги в говны, закинувшись спиной к шершавой склизкой стенке, скукожившись в сохлой сизой шкуре, как вяхирь больной, обреченно ждущий неясыти. Но высидка не требовала хоть напряга сил – странное царье кресло приняло мою обмякшую фигуру как родную, и я дрожал бесконечно и мечтою ждал появления Глаха. И жаба рядом, что плюхнулась ко мне в выемку час ли назад и недвижно о мне бдящая, не была ли Глаховой посланницей по моей судьбе?
И когда заслышались громкие шаги, такмо попирающие землю, что даже жижа моя дрожала вокруг, я ждал тепла и солнца, что эвонна щас Глах вытянет меня крепкой десницей к блестким позвездьям, которые есть горницы Глахова высокого замка, но тень потяжелела и нависла горше и рогатый великан в железосверклом доспехе, хохоча гнусаво, пнул в меня грязные каменья, хохоча-хохоча рыкливо и жадно теребя под мошной:
– Зарыкался, петушок? Ща еще нассу тебе в рыло, где ты тама, а? Посижи, посижи… завтрема ще посластить запросишь, сосунок… коли жити захотишь… Жити-то хошь, говнешок? Аааа, сладко-мя! Ще оближешься…
И когда по векам, дрожливым стыдным страхом, да еще вдарила пахучая струя ссани, солонцою закаплилась вниз по губам – тогда очнулся я и вспомнил…
Воспомнил очень просто все: как вылеживался-терпел, но обезумел, выскочив из канавы, воскочил запальчиво прямо в амбарку, где серж уже громогласно впарывал Катинке – за гнильцу в сладких початках, и она давалась покойно, без тени сласти или стыда, а так пусто стояла, будто и не тут. Потому что сама-разумница закупила с гнильцой (сказывала же истории!), чтобы оберечь стотинку на жертву Метаре. Потому что издавна так завелось в Метаре, даже почиталось обычаем, и только иноземный дурошлеп, как тот папаша швейных близнецов (ну, Эл и Пирси, что ли?) или салага аки Гэль (и это я, что ли?), могли ерепениться. И что, правда, побежал я защищать? И Щерба – ах, дурик! – завопил истошно о Серже-защитнике и взогрел меня чем-то тяжким… Ах, пустомеля, чтоб его! Кто же знал-то, что он в довольстве и счастии алчется от сего непотребства?..
Сейчас, воспоминая, опять я как бы видел наши со Щербой дружные разговоры, но именно видел, а рты-то как будто разевались попусту, и никаких слов не выходило, только ветер пустой. И опять утопал в Катинкиных глазах, но не в голубизне их, а в пустоте, и почувствовал вдруг, будто лишился тела. И откуда-то из-за тумана доносились ще хохочущие слова демона:
– Жити-то хошь? От-же кинулся, горячешный! То охолонись-ка! Скули же, гов…
Но были то пустые слова, лишенные силы, только буквы, куражно выдохнутые в пустой воздух, как сухие листья. Как будто сдутые с той давешней вывески? И ничто не было уже выше – пустота одна. Но внутри меня – внутри-то меня Катинкины глаза, как были они голубыми до вчера, подожгли будто мою желчь. Или наглый хохоток демона ожег меня так? Но через сон услышал я чей-то еще глас – али другого, дружного демона (говорила кормилица, говорила!), али свой? – натужный, но ровный, как вещий гул в страхоморном ущелье:
– Азм. Азм бу вживу. Азм бу вживу. Азм бу вживу…
И увидал я себя самоё, как бы сверху, как существо в яме дернулось, абы Голохом обуянное, извернулось, цапнуло жадно бурый ком жабы, соловевшей рядом, и заживо зажевало ее, дергатную… чмокая, отожрав лапы сперва, а затем и всю до брызнувших мозжей, и все-то – не отрывая горящих глаз от пленившего меня демона. И слюнясь нещадно, грубо тоже хохоча, выплюнуло какой-то хрящ в сторону неба. И демон перекосился, атоль жирный хрящ ему в поганый рот встрял (ха!), и поперхнулся и закашлял гнилой слюной и завыл, ибо почуял мою неистребную желчь.
И мои девять душ (али сколь там Голох ведает? хотя бы и девять на квадриге!) – почуяли ли что? Да неже, пустой токомо вкус какой-то на зубьях, да гадко затеплело внутри, и я… вернулся в себя. И сидел, порыживая, на царском своем корневищном кресле в говняшной яме, но боле никакие поверху не маячили рогачи, будто начисто сожранные открывшейся мне пустотой.
И тогда, абы жаба сам, абы ее поднабравшись опыта, я скользнул глубже в теплую жижицу, щупая ногой коренья, – выживать рассвет.
Хмурое утро и тучи свиты в некий темный глаз – судачат, так герцог Равах на вражьев ворожит, и в свинцовом жбане колдовство свое разводит! И то верно – тучи тодысь и сложатся в зенные бельма, то-то выкружаются пузырями! Брр! А что он зырит-то во жбане своем – потеха! – вожжевые еле правят обоз, а пешкодралы как я или Щерба чапают вяло, месят черную обочину в глухую грязь и толчевают закосившиеся в колее телеги. Только слышатся рваные оклики вожатых да хлысты по драным хребтам, и солдатья божба и храп лошаков в ответку…
Да – как и не было ничё: утром дневельщик (сквернавец, что давеча ще с дружками метал в меня нечистотами) кинул мне чуть не в голову лестницу, бормоча что-то про сраное комендантово отродье и тесак-бы-в-спину, и едва я выбрал чистые манатки (опосля хладного ручьевания! ну а манатки как чистые – тоже чьи-то гнились на складу, даже и вошные, но благостнее новых!) – вот уже зудел рожок на зорьку, трижды-вяло крикнули Раваху благодать, и всю кодлу нашную устроили и погнали укрощать неких болотников, возмущенных добрым герцогом. И вот – чапали… кудать, когдать, все безвестно было, кроме прерывистой мороси, да водицы в рваных сапожцах, да рыжей соломы, востоптанной по обочине в черную грязь.
Я, по правде сказать, не думал много, пусто было и гадковато. Но как-то плыл мыслями поверх черной дороги, сам что ли как темное облако – а потешно! – все примечая: и неприбранное с луга худое сенцо, зазря запорченное, и скверные глаза крестьян в деревухе, через какую проперлись, растерев еще зеленевший щавелью выпас в черную негожицу, и помятых бесспросу девок, и расколотые двери погребцов, где передовые сыскивали явства. И гниль и холод, растекающиеся из тех погребцов, говорили мне яснее ясного, что отряд наший приворожен к царству мертвых, приговорен статься сладким мясцом для болотников, за все наши над Голохом насмешки, и никто этим черным путем не пройдет назад.
Ай ли, гой-еси!
– Эх, навались! – гаркал я Щербе, толкая очередное ушатанное колесо. И вытягивался во фрунт со всеми, когда Серж протопывал мимо, разбрызживая грязь увесистыми сапожищами, и смотрел косо в моросливое небо… и опять громко вчитывал Щербе: – Эх, навались же, сучец! Давай подтяживай! Задцом шевели! – бичевался весело и едва не укашливался смехотцой, когда отребье воскруж скалилось дружно-зло, а Щерба сильнее дрожал узкой задницей. Ах, то не была мстивость, просто не было больше друга, а ще один потешный смерд копошился круже, просто я так переможивал мертвое время, просто надоть было развлечие для сего отборного смрада с их подлыми тесаками, абы никто не проведал настоящих моих раскладов. А так – ежели и чуял, то жалость только к позавчерашнему себе, который был экий сосунок, что стыдно, но счастный сосунок! И знамо было, что – через простужный холод в грудине, когда на вздохе, – щас можно было только щупать грязь замерзшим носком, вылезшим из сапога, и гоношить Щербу, и ожидать Глахова подарка в жизни, которую нельзя изменить…
Но ближе к вечерцу… Отряд наш оголодалый почти уже встал неряшливым лагерем, но подоспела герцогская ратница и выгнала нас с насиженного пригорка. Что же, почапали дальше, и то ли по раскладу, то ли по потехе напоролись за буковой рощей на неразодранную ще деревню – и гнилой нашный строй с гиканьем разломился на ватагу сволочей: кто погнался за квохотной наседкой в кривой дровяник, давя кладку в желтки и попутно голошась, кто за вживким бабьем по хатам, отбивая мозги мужичью. Сам-то я, было заставленный мстивым воззжевым сторожить телегу, плюнул только гаду вслед и тут же натырился по околице, уходившей кривою тропкой за косой плетень, будто бы в сосновик, не особливо глухотный. Но попал на затейную девчонку. Верней-то, услыхал впервах ее (али ея, так ли грамоточнее?)… услыхал смертные визги за хилой избушкой, и потом сбежала как-то и подрала прям в меня, и застоилась в трех шагах, дрожа безнадежно.
Не особливая, но как молвить? Худая и смердная, как все в этой стране, и с липкими космами вместо связных косиц, и с грязными коленцами, и со свежим, розовым ще бланшем на щеке, сильно бросавшимся в очи, аки пимпернель. Но то – земное. Но глаза… так ли живописала мне кормилица глаза Глаховых страждиц? Тех, что живны живмя среди люда простого, а он ихними глазицами глядит, ежели хочет, на наше бедственное бытие. Глаза большие, и обыкно голубые, но темно-фиалковые, коли Глах вникает через них в наши грехи. И каждый гадский неглах, каждый нетопырь щекастый норовит красоту их отнять и выесть, а она и не их, и страждутся те девы всю короткую жизнь…
Сзади ней уже несся по воздуху сыто-пьяный гогот и кабаневый, гонный пот будто предшествовал появлению ейных угнетателей. И девчонка, так зацепившись за корневые витки, бухнулась в бурую мокрую траву на колени передо мной, не царапаясь и не просясь, а толь поклонила голову и откомнула вбок темные космы, обнажив худую шею над острыми позвонками, уходящими в грязную робу, и пискнула что-то на свойной мове. Просила рубить? Еще пискнула – что-то там заради Метары. Може, она Метарова страждица и была?
Но я уже шагнул ширче мимо нее, вытягивая со свистом ноженец, ибо увидел с превеликой хвалою сердца, что два вепря, охочие до ней, выказались Сержем и младшим покрыльником, вечным прохвостом тойной сволости. И описал я клинком яркое полукружие, будто оторачивая смертную делянку, заворожив их отяжеленные толь-толь испитым бражием взоры, полные недоверия моему мятежу… и ложно махнул на покрыльника, и тот отскочил запинчиво, а я легко упал-перекатился, да под опешившего, грузного от сидра Сержа, и соднизу ткнул ему бодцом под доспех и выпрыжнул… а-а! – покрыльник уже напал-таки и тоже проколол вроде бы бок (чудно, и не больцевато!), но было некодь отшагивать – где-то огромная толпа взревела за хатами, – и я прямо пошел боком на меч покрыльника, не давая вытащить и чуя его ржавый желчный хлад, и думая: может се и езмь последний вздох? Но что же ты должен делать, если уходишь – только быть как воин! Как отец погиб – с молитвой и воем! И так я навалился боком на покрыльника, зарябившегося вдруг густым потом и вцепившегося бесцельно в меч, и ноженцом просто как петуху, за которым тот курахтался от обоза, как горластому петуху перерезал ему глотку, и отшагнул от падали, чуя, как рвется бок… в фонтане и егожной гажей крови и, от пояса родничащей, своей родной, тойже гневно-бурой… шаганул к чуй-стающему на колена Сержу, и выдал-та по харе, спеша, пока была сила в кривом каблуке, и споро-споро, ведомый кровопенным туманом в голове – ахах-ха! ааа! – срезал с черта защиту, воскрыл мерзкие волосатые ляхи во гнойных-то прыщах! – и отполоснул – а, ору-то сладкого, ору!!! – в три рваных удара отполосил чертов палец и а-а-а! так суванул кровулину гаду в прямо в его ротозейную щель, сквозь пробитые-то зубья, чтобы не орал-то, и вбил еще последним ударом пяты ему в глотье и что-то кричал, причитая насмешно:
– А!!! Кахто тут петушок! Кахто сосунок! А!!!
И подошвой, тертой уж до ступни, вбивал/втирал ему в гнилое разгубье всю собью вытекавшую из бока желчь, покаль не увидел толпу мужланов-болотников, мчащую за тремя расхрыстанными содатиками, покась не увидал, как первого токнули глупчика Щербу, аки вот каплуна, тонкой вилой, пока не прошлась толпа топотом по двумцам обозникам и не распластала их под лапотцами, и пока не киданулась и до меня черным роем (а я что? да ждал просто! от мужичья ли драпать?), пока не закричнула сзади девчонка на дичьей высокой мове, отгоняя глахоборов, и пока не проголохотала толпа мне за спину – на щемные крики, визжевые крики ещё резаного отродья за бугром, где самый обоз, пока не глянул прощальниво в темные глаза девчонки-Метары… покаль не сплюнул ненависть в сырую лебеду, и не поковылял, страждно зажимая бок, в сторону потерявшего солнце леса…
…
…так я и брел, и не помнил толком пути: где-то перетаскивался через водотечу и гробанулся – ах, да тело заплелось ногами! а очумился уже когда рваным боком да на обломанный стволец, и взвыл аки волк на красную Луну…
…где-то шагал на кочку, поросшую рыжим мхом, и с лишайной бородой на холодную сторону, и так походила на гнома-кузнеца из войскового стана, что загляделся изумленно – да тут-то он откуда? – и промахнулся сапогом, и снес кузнецу пол-хари разбитым каблуком и угодил еще в яму по колено, так что и лицом приложился с разгону в вялую лужицу с водомерками, то-то и воскрес!..
…и шумели вдруг в голове подробия схватки: опять я подкатывался под сс-сержа и щипал его, кк-квохчущего, аки кочета, и опять девчонка-Метара смотрела на меня молчаливыми фиалковыми глазищами, расцветшими на лугу…
…и, поскользнувшись на скользких шишках, ткнулся вдруг лбом о худую сосну, сам набив знатный шишак, но хотя бы опомнился и оглахнулся: что же, закружился? Опять вон водоточина и кочка вроде та же, облысенная мойжим сапогом… что же?..
…и глахнулся опять, так губошлепнулся прямо в камень невидный, что зубья врозь…
…и лежал плашмя в холодецкой луже, пошедшей краснотной кровушкой от моей бочины по зеленой взвеси, и обдирал кровящими зубосколами подмерзший брусничный куст, и было горько в гортани и горько в боку… но вроде ободрился и что-то стал прикидывать: не напролом, а надоть водоль водоточины, токоть не к селу пограбленному, а в холм, и там бы поляну сыскать, да чтобно ширшие листы подорожника, взросшие на осеннем солнце, насобрать и обложиться, где рвано, и може до утра докимарить, а там…
…еще сидел как-то, свесив ноги в ручей, пошедший песком, передыхивал… видел там мелких уклеек или как там, но поди-ка… а разве вот? Курткой пошел как бреднем, и выпростал-таки на бережок пару пужливых серебристых рыбиц, и пал на колени ловить их, скользких и прыжливых, и так и закусил, в песотне скриплой завалянных, с башкой и нутреностями (всяко слаще жабы!), и заел еще мерзлой брусникой, и порадовался солнечному лучу и ухмыльнулся фиалковым ясноцветьям, опять глазеющим на меня поверх опалой листвы, и пошагал опять, зажимая ноющий бок…
…и вот уперся в темный совершенно ельник, откуда лилась журчливая водовода, и так решил: таки надо в холм, искать истоку, а толь на вершину выйти, должнать плоская быть и с полянами, – и пошлепал прямо сапогами по ручью, а хоть и холодно, только побрежно и вовсеть непролазно, но ох! в сапогах и так хлюпица после болота, и палец, что выбился, больно уж мерз…
…и вот сколько брел? Было темно в ельнике и холодно, и куртка влажная тяжко холодила, и ноги сводила судорога, и уже знал, что никуда до света не добреду…
…вот до того камня…
…вот до того ствола поваленного, еще лезть через него как?..
…вот до той расплесы, и еще не омут ли?..
…вот до корня, торчащего поперек…
…ааа! Ааа! Увидал вдруг волчьи глаза, злоблестючие, в ивовом кусте – видно, водопоился, но тут же ощерился и зарычал и кровушку мою почуял, по брылам заслюнившимся чуя!
И я, голохаясь и брызжа, полез из ручья на вязкий берег, и вверх под елки-иголки, малость расступившиеся, но куда-то в совершенную глахову тьму, и крутился по мхам-лишаям, скользя левой совсем порвавшейся подошвой, чувствуя полную грязь в пальцах, и вжичил кладенцом налево-направо, отгоняя злостные глаза… ах! казалось из-за каждого кривого ствола заблистали. И слышал, да, волчьи взвывы позади, и слышал почти их мягкий ход и чуял почти зловестный их дых, ибо ждали моего падения, чтобы кинуться и горловым яблоком моим поживиться (говорят, Глахья сила в нем!), и как вот было смертно-холодно только что, так вот стало смертно-жарко, и бок запылал, и дыхание закипело белым паром в ноющном воздухе, будто ветер бился, пойманный в этих елках… и сердце рвалось, как я рвал куда-то в холм, кружась и отмахиваясь, то и дело шлепая кладенцом по тугим стволам, так что рука онемела держать. Но держал крепко и как-то бежал, отстранившись от тела сознанием и зная, что скоро паду на коленца, и в панике беспомощной. И как спастись-то, завиться ли в дитячий клубок? А тело-то – не! крутилось еще, пиналось и бежало, глаза зыркали суматошно, выищивая, куда под какие ельи лапы занырнуть, куда проход видится, где чуть светлится что-то надежное во всей этой тьме.
И вырвался вдруг – ах, Голох мой! – на поляну широкую, где летом цвел дербенник, полегший уже вялыми ветлами, и во центре высился тотемный кой-то столб, немного все же накось, и я знал, что выпал на капище чье-то, и волки завыли обиженно назади, ибо не было им хода к людским богам! О Глаше! И выбросил за кусты кладенец – кто же к богам с угрозой? – и рухнул, обессиленно плача, по-телячьи мыча убереженным горлом, обнимая столбину, все ее росщепы-занозы оглаживая ладошами, будто только и живыми из всего моего молодецкого тела…
…
…очнулся, и не знал, где я. То ли на небе, где Метара дает вечные танцеваны? Ах, как была кормилица права! Ибо был я вроде еще и у тотема, чувствуемого спиной, но не видел леса, а будто бы в широком зале со звездами на потолочье, и дивные эльфы танцевали вокруг, с послушными светляшками в руках и на обручах лобных, и вышла вдруг царица, по ширшему обручу судя, и Луна, бывшая в тайном облаке, вдруг только в нее одну ударила лучом, и увидел я пред собой ее белое лицо, нежно-овальное, само как соцветие ночной лилии, где и уста вязкие, что губят доверчивых молодцев, и тонкий царский мег (ах, ну нос по-человечьи!) аки волшебная тычина, и черные глаза, где тонут каменные даже города… черные даже во блесткой Луне.
И коснулась щеки моей, грязной-то, в струпьях от комарьев и скверной лагерной бритости, своей белой прелестью, и обняла голову мою мягкими ладушками, нежными как младенческое счастье при материнском слове, и шепнула что-то на ухо – что-то волшебно-эльфийское… и Луна пропала, и Она пропала в тот же миг.
Но будто жизнь заново хлынула в меня, вымывая всю жабью пустоту, что заполонила давеча мое нутро, и все тело ожило было бодро, и отозвалось немедля каждой болящей частицей, так что весь я стал от пяты до зубца как будто из боли. И думал только: ах, зачем Она оживила меня, если оставила в этой боли умирать, теряя себя лист за листом на влажном ветру?