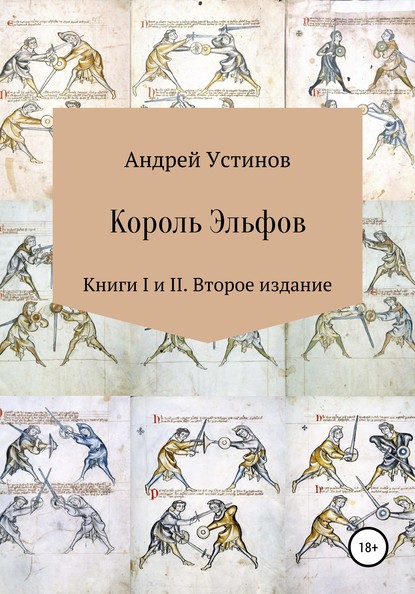По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Король эльфов. Книги I и II. Второе издание
Автор
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Базар. Некий торговец (другой) подталкивает соседа локтем – вроде видели хорохорщика вчера и спорили, скоро ль обдерут/замочат. Хочет хоть курткой поживиться успеть, – опять бо штанная история, опять разжиться заморским образцом? Гаэль (это я) от предложения торговца шарахается, как от гадкого прокаженного. Улица толкает его в порт. Бредет совершенно бессмысленно: ах, да и мог бы попытаться продать куртку, сапоги, наняться матросом – вон их сколько – но нет, это одежда дворянина, ее продать нельзя. Нельзя…
Идет за какими-то торговцами к рынку мимо храмов – безразлично. Мимо рынка рабов/рабынь – безразлично (торгуют молодку-красотку).
Бродит по рынку, воображает троллевые пиршества этими кучами еды. Приступ голода до рези – ищет того торговца-острослова, да уже тю-тю, другой предлагает меньше – Гаэль отказывается. Снова бродит, глотая слюну. Птичий рынок – гномы-фокусники, представление Аристофена (так кричит зазывала-деревенщина, неверно ударяя в бубен), гоблины – дикие звери в клетках. Чуть не одуревает от вони – в изобилии домашние ушаны, приученные к хозяйской руке, листоклювы, мирные фруктоеды и вампиры-кровососы – для защиты крова. Кружит, притяжается к рынку неизбежно, те же запахи еды, все те же лужи-помои, все те же гномы пыжатся, те же гоблины воют в клетях. Примеряется тырнуть хоть корку, да боится – видел, что стражники сладостно мутузили кого-то.
Эйфе с яблоком (делится – не дарит, а именно делится). Ах, Эйфе! На рынке она ждет отца у здания – выбегла из здания на крыльцо (хотя велели не теряться), грызет яблоко… Эйфе – кличет ее няня-компаньонка – и имя западает в память. Белокурая нимфа, потому что в зеленом. Чем-то напоминает девчушку из трактира – тем же эманатом свежести, точно они сёстры (хотя этого не может быть, но так кажется и это немножко вгоняет в раздумье). Тоже нарядная, но ясная дворянка, это как осенний и весенний дни – тоже дни. Ах, что за философия! Долго мнется вокруг нее, потом ее находит-уводит няня, подозрительно косясь на Гэля – что он от вас терся, госпожа?
И откуда-то струится чистый воздух: нет, я дворянин, лучше я сдохну, чем буду просить милостыню у сих смердов!
Дальше опять калейдоскоп кадров из чьей-то (ах, его! моей!) жизни. Опять острослов – ты хотел продать? Ха! Продать – и день прожить как смерд? Вот ты назойливая муха! А торговец его колотит палкой. Убегает, краснея от стыда, падая на лотки, обдирая ладони, и по-детски голохясь. Опять подъем – бежит к Эйфе, станет у ее отца/родителей просить приюта – уже ее нет. Пытается то вникнуть в здание бахвальством (я ее друг), то тайком – его взашей, как челядь (да тебе парадного крыльца много – через черный выход в кучу грязи – ха-ха!). Бежит к другому храму. А во Глаховом храме на ступеньках хилые нищие – лезут и льнут к нему, противные руки шарят по ослабевшему телу. А забрать-то нечего – опять проклятья. И опять бежит истошно, пока испуг. Шатаясь, плетется дальше.
Вечереет. Видит подвыпивших стражников, выбряцавшихся из кабака. Тусклый просвет в сознании – они вернут, вернут! Плетется за ними, за горько-дымными факелами их – боится, больно ражие и недобро гутуют меж собой. Мир сужается до пляшущего факельного круга – ничего не замечает, толчки-пинки, боится утеряться в лабиринте трухлявых лабазов. А те на плацевом пригорке встречают начальника стражи (это явно по разговору) – вид добротный. Гэль подвигается ближе, ждет-дрожит, сглатывая слюну; да тот так по-черному вдруг взъелся на долбоносов, что Гэль прирастает к земле, пробует отпятиться… запнулся, да и в лужу. Ох же, мать твою Метару! И тут черный выгляд начальника падает на лицо Гэля – какразно… какразенно… под факелом. И с факела искры, как мотыльки, слетаются к нему – красивые! Но почему жгутся…
Ах, Глаше! Эйфе – ах, кто такая Эйфе? Какой божественной искрой вспыхнула она тогда из провала моей памяти, спасая меня, и как наново вспыхивает сейчас! И не смутной тенью, а живой девчонкой-нимфой, посланницей живых богов…
Ступени были косые, щербатые. Но столько древние, что их косость (или костость?) уже сталась местной привычкой, вкопавшейся в землю. Когда-то, на заре летописных времен (на углах выбиты чудные руны – да не прочтешь!) – из парадного красного туфа, но давно обыденные от грязи, и все же храмовые, сиречь, не принадлежащие никому особо, кто возжелал бы испнуть меня по пустой прихоти. В гладких базинах, вытертых босыми пятками, и в звездчатых выколках от лирийских длинных шпор (ах, у дяди были дома такие, дурацкая мода!) копилась вода – в одной я вяло приметил водомерку: как и ваш покорный слуга, комарик пристал тут на перепой – передохнуть. Ах-ха! Да и где же еще водомерке воду пить, как не у Метаровой Купели! Где богиня купалась однажды в незапямятные времена и где был ее ореховый шалаш, а теперь храм возвышенный в ее честь…
Но по порядку. Сам я только что притомился откель-то и узнал наперво те желанные ступени – смутная иллюстрация из школьных скрижалей! И потом, усевши уже, уже ерзая (шершавы больно!), начал удивляться – ведь не рыночный домик, это храм! Но не Голоха (голоховский уже проходил сто раз, там все приступы были в калеках и нищих, облепивших белесые ступни портала… живое покрывало клопов!), а некой неизвестной секты. Но как будто – ах, дыхание богов почуял, и закружилась голова, и почудилось… На тяжелой дубовой двери – мастеровитое тиснение, древо жизни, точное до малейшей тени на листках, бегущей за солнцем, и до прозрачных крыл порхающих мотылевых фей – как возможно?! Дерево будто вздрогнуло от моего взгляда и тотчас же в левой створе раскрылась таинка и оттоль, сама как мотылинка, торопящая превращение, выпорхнула малая девчушка, чуть жмурясь на солнце. Сама беляночка, но с вплетенной в косу зеленой лентой, и в зеленом же плотном плащеце и дивных травяных сандалетках – выбежала, беззаботно кусая яркое яблоко, и плюхнулась на ступеньку рядом со мной. Куснула еще раз, норовя захватить побольше, и вдруг протянула сочный остаток мне:
– Держи, а то ты сам шатучий. Я тебя увидела в глазок. Они там пока кисель разводят. Меня зовут Эйфе.
– M-merci, mademoiselle, – я покраснел, но схватился за яблоко, как за Плод Жажды из сказаний, жадно заторопился обкусать со всех сторон, закашлялся, разгораясь от стыда… заметил на ее перстневом пальчике колечко с хризолитом, не простушка! – M-merci, p-pardon. Гаэль Франк к вашим услугам. – И вскочил, и неловко поклонился, чуть не поскользнувшись о того водомерку в мелкой лужице. – P?pardon, – опять законфузился, что сок потешно пузырится на губах (уф, как простолюд, право!)… отважился блеснуть риторикой: – Не хотел лишать жизни сие малое создание!
– Ты смешной, – прыснула Эйфе, но затем доверительно тягая за рукав: – Мне нельзя чавкать, но ты жевай. Они скоро придут за мной.
– А что, – вопросил я сквозь слащавую кашицу во рту, – за храм-то это? Некой вестницы? – Что храм какой-то божицы, не сугубо мужий, я догадался сам, раз Эйфе в праздном уборе… И даже предполагал, что Метаров и есть, цель паломничества моего, но кто знает? – И что за руны те, ты научена?
– Это Дом Феи, – Эйфе зажмурилась, заклоняясь столь, что зеленый бантик поцеловал лужицу назади… подставляя личико солнцу. – Смотри на мои глаза. – Она вдруг отважно распахнула их встречь свету, на вздохе я увидел их цвет: темно-корицевый… нет, вдруг разделился на кармин и кобальт, и дальше всеми соцветьями радуги… как у кошки, зрачки сжались в малюсные точки и остались только пылающие радужки.
– Видишь, – она пригнулась к дрожащим коленкам, протирая глаза, – я тоже их принцесса, но дальняя. Фея – это или королева эльфов, или принцесса. Это наше родословие там на двери. А руны те – имена бывших и будущих королев. Которое нынешнее – ты погляди, щурясь, оно крупнее мерцает.
– Постой-постой, – схватился я. – Я, понятно, к волшебствам приучен, но как же будущих?
– Я не знаю, – Эйфе чуть не плакала уже. – Я не королева и никогда не буду. Следующую будут звать Эль, так говорят звонкие руны. Но она еще не соткалась из воздуха и теней, и волхвы не знают где, они гадают каждый за свою ветвь, а какой смысл, если буду не я. Дай яблоко!
Я опешил опять (что за тюфяк!), но послушно отдал ей огрызок, голый уже до сердечка. Эйфе быстро, как одержимая духом, затолкала его в рот, раскусила так, что обе щечки раздулись, будто жвала… язычком вытолкнула на ладошку большое коричневое зерно, остальное плюнула сердито на сторону:
– Держи, – снова она была забавной беляночкой, разодетой к празднику, доброй к несчастному прохожему всей душой, готовой забесплатно открыть самый детский секрет: – Ты проглоти сейчас! Это судьба! – Ну что за лепет? Но Эйфе втиснула семечко мне в кулак, еще мокрый от яблочного сока, и вскочила. Нет – вспорхнула сразу на две ступени, переполоша несчастного водомерку, оставив мне только ветер и тающий яблонный аромат, да еще раскушенную горечь на заднем зубе.
За ней пришли.
Так вот я бредил! И в таком был мальчишеском счастье, что толчки и тычки реального мира даже не чуял. До того, что стражники, небрежно преклонившие надо мной свои чадилки, даже щеку мне безбородую закапавшие горячей смолой (аж до шрама!), даже замешкались.
И, ей-глаху говорю вам, я смеялся, слыша их разговоры! Мол, и одет-то как дворянчик, и лицо-то засветилось аж ярче, чем их факела… не, не ярче, а как-то, что ль, благодатнее. Словами-то и выразить не знали, и переминались в чудном онеменении (звать ли уж тихаря?), пока облаженный не перестал улыбаться.
А я – просто в какой-то момент перестал их видеть. Просто как будто на небо воспрял – в Асгардовы пределы, где вечное древо жизни высится еще в занебесье, в самим богам неведомые пределы.
2
В рыцарских хрониках, до которых в ликейоне я был большой охотник, всегда все оканчивается за здравие молодых. Эх! Хорошо помню, когда инфлюэнца гуляла по Коголану, мы были лишены учебы и выходных, и сбегал из душного дормантория в библиотеку… шкафы-армуары знал уже назубок и бежал к нужному, доставал очередной том, тут же раскладывался на полу под скупым окном, распуская сопли, и воображал себя героем в серебряных доспехах. Хах! И одолев не больше трети, всегда заглядывал в конец… Забегу и я вперед, чтобы вы не сильно тужили о моей участи. Жизнь не целомудренная книга, много и грязи беспутной, но все же я выжил в Метаре и даже, до поры до времени, неплохо себя чувствовал. А то, что смеюсь и плачу над самим собой частенько, так ведь и был сопливым волчонком! Вспомните-ка сами годы учения – каждое лето мнится вам, что прошлый год был еще детским, но теперь-то вы повзрослели бесповоротно! Уже и менторы величают вас по титулам, так как не отражаться в зеркале готовым кавалером? Но скажу вам простую правду: так длится всю жизнь, и каждое лето вы будете смеяться над собой минувшим.
Я был тогда в охранении на дальнем посту. Довольно сонная забота: сидеть и ночь сторожить. Но все же набросаю вам сейчас живую картинку, чтобы прочувствовалось, каково это дремать-дремать… и вдруг.
Треснула ветка где-то и проснулся в испуге, и сонное воображение тут же всколыхнулось фантазиями – вроде слева, не одинец ли гладный, давешний гость? У кого шерсть над калканом сваляна в смоляную броню, что тычь его не тычь. Абы только в зрак бить, да где тут видно. А еще ли гонный уж вертопрах, Голох его разнюхай?! Да вроде препуцией… бишь, росой кабаньей, которой черти поутру моются… вроде не души?т?
Тут же назади, за крышей поста, ухнула неясыть, как в насмешку. Ах, бородатая тварь! Так вот и дрожи-вертись ужом, безъядно тыкая жалом факела в инешную темно-темень, скорее в Щербачка попадешь. Тихо так он ходит, забитый паренек… Эх, я даже чувствовал над ним братское главенство. А не, спит же он, с час назад улегся, пока еще Медведица не показала когти… Тише ночи спит. Угрелся там поди…
Чу!!! Задремал ли я? Факелец угас уж и выпал куда-то к Метаре…
Чуть от страха не обделался, самым нутром почуяв что-то темновое, вкрадливо шуршащее со стороны лагеря. Задышал было ртом, влажный пар на губах… да вовремя дернулась щека – попомнил завет-оплеуху прошлой поверки: сопатка тогда потекла на дыхальном пару, шмыганул и попался. Ах! Враз нащупал черен – ах, тут! Вот еще наука – не шарамбать бутеролью (ну, лопастью по-местному), не тащить меч впопыхах, готовить заране… Я шевельнулся, разминая затекшее плечо, пригнулся засадно. Готов! Туша сержа, выданная мражным букетом бедряночки с чесночком, накатывалась понаветру, глуша остальные звуки. Тот еще секач-херач! Зубы запросились биться… Ах, тля!
– Именем Метары!.. – и выкатился из-за шершавого пристенка шелудивым катуном, выжался пружиной, выпростал меч… – К-кто идет? – дурно выкрикнул во тьму, следом лишь поняв, что пережмурился со страху… Ровно мурзик! Ах, позор шутейный. Ладно же… на!
– О-хе-хо! – заухал серж в морочной изблизи, что давешний филин бородатый. И поймай, где! – О-хе-хо! Не убий, кобель! О-хе-хо, вот ты живчик. Так и стовай, и чтобы не искорил мне зде.
– Кто идет? P-parole… При-и?говор? – еще махая дрожащим мечом, я продолжал дурно-запинисто кричать, ибо так уставлено, не то зуботычина влетит. Серж-бородатая-сволочь того и ждет. Чудо, что факелец прокис давно и не выдал, чудо Глахово! Ох, молитва с меня!
– Карента, чтобы тя. Успоковался, франчонок? Зазнать бы еще, хде она, а? Тамгрят девки – волшевницы! – Серж хохотнул, треснул какую-то ветку и перегарный роздых приблизился почти к лицу. – Молодчик, мастер Геэль, молодчик, так вот и стражи. – Тяжелая железёная вачега долбанула мне по плечу… – Охе-хо! А! Не мычишь? Молодчик! Завтрема вот, в уволку прихвачу с нами, а? Юбашонок-то гоношить-щипать, а? Устроим им Каренту, а? О-хе-хо! Вот, кстаже, а хде там мой Щербачок? Щеербочка? – загнусавил, отвратно хохоча. – Позыв у ме, хе-хо, обслужи уж по-франковски!..
О Глах!
У меня… У меня не было тогда воли сражаться с сержем по-мужски. Хотя какой там муж? Самое достойное ему – топориком бы сзади до жижи, аки слизняка. Но и на это не было сердечного порыва. Да и была бы воля – что бы сделал? И куда бы пошел? И потому – я лишь дернулся слабовольно, будто самого меня ткнули стебарю в причинное место, кадык заплёкался в безгласом спазме, да серж ответа и не ждал, – похрюкивая, уже пробирался наощупь в утробу поста…
А я лишь отшатнулся с его пути, стыдливо перегнулся через планширь в темную сырость, разблевываясь и давя звук, пока там, в душном посте, меняли друг друга хрюканье и хныканье, сопение и какое-то чмоканье… ббббоже… ааагрх, хггр… фуух… вот, тля… ну, вонец… не учуял бы, ирод.
– Ааа, слатенький! – заорал серж внутри, перебивая истошный Щербачовский писк. Еще поорал, пугая подкрышных нетопырей (так абрашки и сполошнулись из-под строп) и выпростался наконец в улицу, что-то приволакивая хвостом (кажись, портупей) и тяжко вздыша. От разлившегося кругами мерзового духа, от жаркой туши, почти трущейся о локоть, мне опять заворотило кишки чуть не до горла, еле устоял на млеющих поджилках – ошершил даже щеку о стену, да косяком и приочнулся.
– Охе-хо. Стовай мне, рымля… Ну, завтрема, франчонок. Стражи мне тут… Щербочку мою стережи… О-хе-хо! – протоковал ирод на роздыхе, почти нежно, и опять одарил меня варегой, тля, да уже без злого размаха, и попер-попер-попер натуральным одинцом, хвоща и ломя зазря полноягодный ще боярышник, будто не сознавая дорогу. И ниже зачавкал по ольхам, к ручью… видать, бошку от зелья отмочить. Да никакой эльфийской влажи на сю скверну не хватит! Ах, тля… Ааагр… фуух… урод же.
Вскоре человечий треск утих и опять тревоги – то нетопырь обратно под ендову скребется, то осьмизубы в лесной подстилке слепошатся… то ли палый гландис (ну, желудь) прополошил осоку, то ли совушка погадку отрыгнула. По-настоящему, я токмо черного одинца и опасался – ладно бы желудился, а то привадился по корням трюфеля ковырять, нешто делиться? Но то днем… А ща точию завидовал желтоглазихе-неясыти, как ей все ведомо и явно в ночной паутине. Еще выругнулся на сержа по-детски (чтоб до полудня хрипелось), отыскал с пола давешний факелец, потыкал ветошью в затаенную крынку с деревянным, трудно раскурил огниво… хмурясь, прогрел махоточку отвара (горчит немилостно). Эх! Факелец приладил пока в щель меж хилыми сосновыми гредами (эх, криволапы), сам присел-привалился на негодный обрубок, насильно прихлебывая. Пламя шипело над ухом, обессиленно тщась укусить, заполняя плескучей щепотою весь мой тогдашний мирок…
Что же, гордиться мне нечем. Но я часто возвращаюсь памятью в ту ночь, где столь густо перемешалась вся путаница тех дней. Когда я жил, ей-глаху, как слабоумный подросток… сущий dеrangеe, кому довольно было минуты, чтобы перейти от плача к смеху. Какое же метарейское слово? Блажеверный? Когда не думаешь об окружающем зле, а просто сосуществуешь с ним. Когда и воспоминания, и сны – легко перемешивались в детском моем сознании, будто в некой Аристофеновой комедии. И ежели я выступал в той комедии первостатейным горховым шутцом – так и что с того? Надо быть честным с прошлым, даже не для друзей (им-то можно хоть три короба пестрых лент на уши накрутить!), но для себя. Ибо только помня прошлое можно видеть будущий путь. Ибо никогда не нужно приукрашать себя, но недокрашивать – можно. А ежели и приукрашивать, то сатирически и преувеличенно, будто на ярмарке под кривым стеклом. Хах! Помните свои кривые образы? И потому, что столько раз вспоминал и перебирал в памяти каждый свой огрех, рассказ мой уже не рассказ очевидца, а будто перевранный трижды парафраз нелепой сатиры, где перепутаны сон и явь. Но что же делать, если заслужил эту сатиру? Итак… Я безглашно дремал на посту, и во сне переживал заново другой сон, с которого начались мои Метарские службы…
А было так: сон был густой, без сполохов, и вдруг-да будто льняное полотно души начали пожигать лучинами… да, будто меня пытали за колдовство, за вожество с эльфами, за неведомые мироскольные страсти. “На одр шельмеца”, приказал кто-то темный, а ложе было – набитая гвоздьями дощина, да еще раскаленная. Сами-то пытатели точно были чернокнижники, ибо как же так? Доска и коркой не тлела, но жгла спину немилостно. И вот – они кричали на меня назвать грядущую королеву. И Гаэль (это я), хотя и во сне, хотя и мучимый нестерпно, почему-то неуемно и злостно хихикал над ними, ибо ведал (не знамо как), что были они суть-невеждами и про будущее – даже правильного пророчества не зрили в тех лучинных скрижалях. И гвоздья израстали все новые и новые из ощерившейся глазка?ми доски, плавились на жару и ростились в погань, в дурнушник шипучий, слоясь на черешках в двух-трехраздельные колючки. “Нет, он ничему не пророк и не свидетель!” – причёл разочарованно кто-то темный, не разглядев во мне корысти, и Гаэль (это я) ажно разыкался от горького смеха сквозь злые уколы дурнушника, как же нет в нем корысти, ибо он и был центром миротока? Аааа! – уже взвыл я, Гаэль Франк, выпадая изо сна, ибо не проспел познать их тайнозвонное слово: но что же суть мир-о-ток?
– Ух-фу, ух-фу… – я дрожал, скукожившись, часто-часто дыша, опять не помня себя. Тело (не я) начало как-то распеленываться, усаживаться, обживаться… Где же? Бесцветная сыростливая камора, чёй-то тусклеет и шуршит (улица?) из амбразуры над головой… ах, и каплет с ее подошвы за шиворот. Справа дверь окованная, но с подвыбитой доской, еще там в углу некий чугунок, ч-ч-что же это, урыльник да без крышки? В нос той же миг шибанули мерзостные миазмы и тело вяло скособочилось, блевно изрыгаясь под стену, всю и без меня шедшую сохлыми пятнами… ух-фу… да нечем изрыгаться. Пробила испарина… голова, хотя в тумане, что-то начала соображать – я в стражнице, поди? Брошенный надысь бесчувственным кулем на дощаное лежбище, но без тюфяка, прям-да на нестроганые задорины. Еще занятно: толстые крепкие ноги лежбища одеты в железные тазы… ха, будто в рваные боты! Да-да, присно и вода тамо же гноилась, судя по обильной слизи, да проржавились уж всквозь… К чему бы тазы? Тут рука левшая сама ишь-то потянулась расчесать раззудшую отлежанную щеку, да я и взвизгнул по-бабьи, вскочив и ощупываясь: запястье, да что, вся рука, весь я… весь был в мелочных ранках; по всей плоти торжествовали раздувшиеся кровяные гладыши – их шевеление ощутилось разом и под запятнанной вдрызг сорочкой, и за ухом чой-то (пшел!) заскреблось… и в яйцевище (ох, Голох!) засвербило нестерпно.
Тако и помучался, разоблачившись до зяблых нагишей, давя клопьев по всем швам и по?лам, облачившись было брезгливо… да и опять, но ничё уж не сыскал на третий раз, – вышло, по мнительности досада. Но все-то вздрагивал и взрыпливался опять расчехвоститься, сидел нахохленно, бубливо голохясь под нос, пока терпеж не подошел. Кое-как, прижав ноздри, дыхая в ладонь, оправился у чугунка и отскочил с запинкою, с портами на коленах еще, кропля еще глинистый пол, обратно под скудосветную амбразуру – поветрие посвежее словить. Но в дверь не бил бивмя и стражу не зыкал вельмово, давешней трепки хватило.
Наконец – я дернулся от дремы. Кто-то далече в коридоре жмакнул железной дверью, прохохотал эхом во все закоулки, протоптал тяжко до моей каморы, скрипанул ключем в скважине и бухнул сапогом по окантовке. Дверь испуганно ломанулась внутрь и в проеме заплясали огневые тени, затем выказался статный усач в кожаном прикиде стражника (таких-то я и следил вчера по городищу). Малый приладил факел в крепеж на стене, только при огне и развидевшийся, почистил от чего-то картофельного ус, потешно скосив глаза, затем сочно сплевнул какую-то бурую жвачку в сторону чугунка, цыкнул, что-то выцепил в зубе кривым засаженным пальцем, еще хрюкнул носом и сплевнул еще, будто на меткость, и добродушно воззрился на меня:
– Ну что побылось? Гуторишь по метарски-то, а, блаженный? – Голос его оказался сочный, особо гулкий по каморе, действительно обильный слюной (ибо стражник снова весело плюнул в чугунок), и живо напомнил виденные вчера на фруктовом развале желтые пузырчатые срезы помпельмуса.
– Не… ны… – замычал я, взвившись было на новый окорот вроде “не знаю чина вашего, господин хороший” (ах, всё злые следы риторики, коей меня зазря потчевали дома!), да вовремя осекши язык. Да еще потянувшийся с коридора запах кухни пустил стокмую резь по желудку, что оный буркнул простодушно, вовсе уравнивая меня с усатым пришельцем (про себя я уже окрестил его картофелеусом). – В-вполне разумею, мой сударь, – я ответствовал в итоге несколько нахохлисто, но без верхних ноток в голосе. Метара его ведает, к добру ли тот малый?
– Агась… – Стражник вдруг разухмыльнулся, абы заклад выиграл. Засим вдумчиво дал двери пару добродушных тумаков, выпростал факел взад и подшагнул ближе: будто подпалить меня хотел (с перепугу помни?лось), да на тусклом луче из амбразуры факел утих и лишь тихо шипел. – Ну, ходку-то выходишь? Больно ты блажил давеча… – Еще покрутил на меня белесыми глазами и добавил, ажно причавкнув и сам себя переплюнув: – Как ты пожрать-то? А потом до коменду погре… хр?р, тьфу!.. потолкует с тобой за твое рожьё.
Итожно – картофелеус вывел меня в харчевальный зал, где моложавая стряпиха хохотнула невнятно: “Новенный, что ль? На поскребушки и соль!”, – и чавота нарочито наскребла мне с котла. Я и хотел, да уже не мог рассориться, совсем поплыл головой при явном виде и дыхе еды – густая бобовая кашица, даже, кажись, со шпиковой нарезкой и черными чесночными зернами. Ткнулся с поданною ущербной миской за ближний стол, где под светильником завидел еще ничейную пару горбушек серого, да и принялся ломтевать кашу в рот… о?о… от же горячий пересол! Проводник мой тем часом подсел к четверке окоженных мужланов (ох, и непробный тут народец требуют в стражу! дворяне ли вовсе?) и я, отходя от первого жора, начал уже почище выскребать плошку хлебом и даже с любопытством прислушивать… Гундели примерно так: